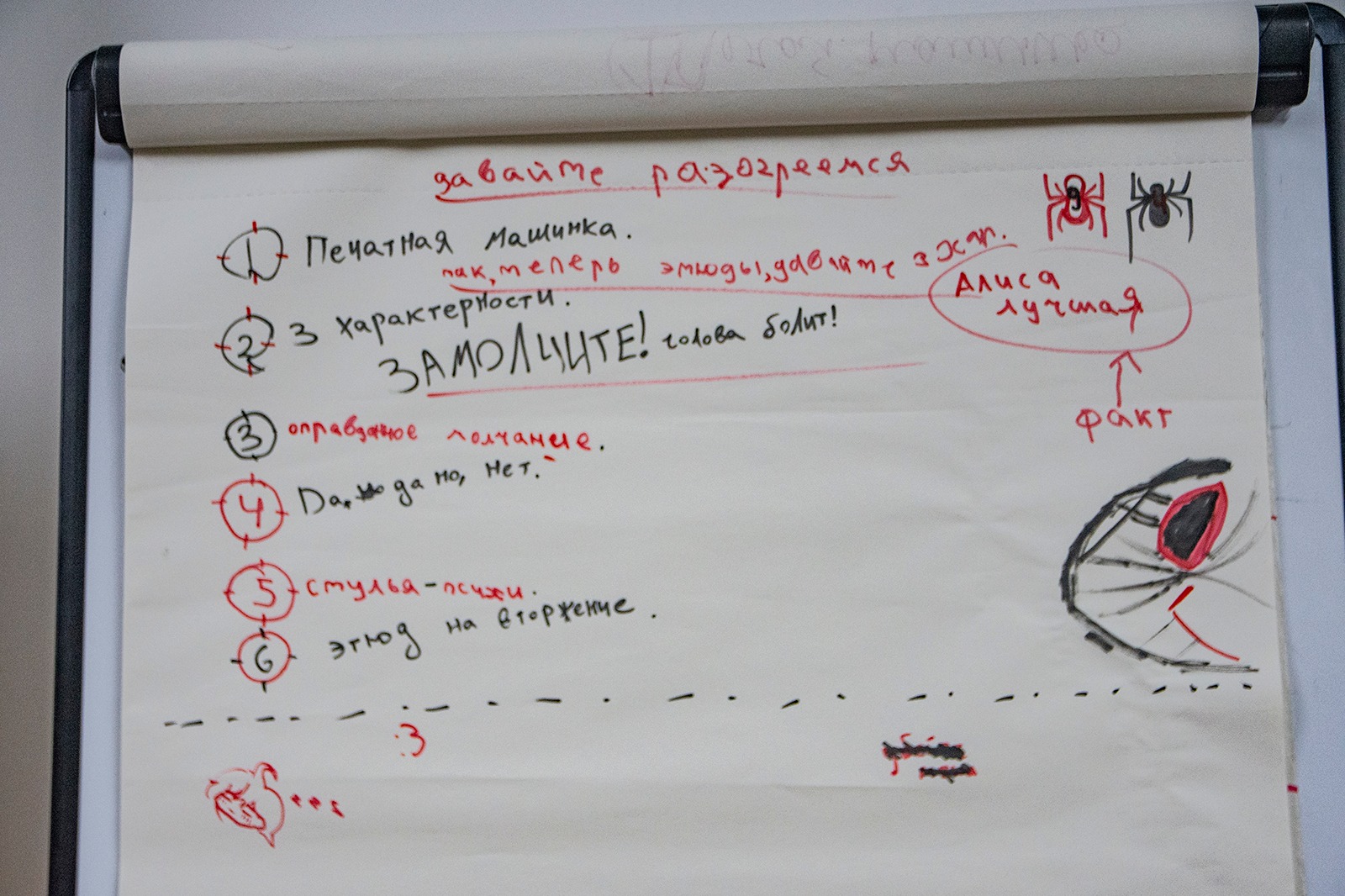Сашу Окуня – иерусалимского художника с мироощущением римлянина – называют Ханохом Левином израильской живописи. Вероятно, за то, что он пытается преодолеть наш извечный страх самоиронии. Искушенный историк искусств – профанных и сакральных – он часто подписывает свои кураторские труды Анри Бергсон Джуниор, тем самым утверждая жизнь в качестве подлинной реальности. И при этом готов выпороть публику так, что болеть будет долго. Но если бы он не жил здесь, среди нас, за его работами впору было бы ехать на другой континент.

Высокая живопись Саши Окуня чудо как хороша – она в несколько касаний уложит на лопатки любой вымученный постмодернизм. Ренессансные деликатесы на этом большом живописном пиру приправлены абсурдистскими spécialité и украшены вишенками новой мифологии. Впрочем, мифическое с реальным и высокое с низким соединены здесь довольно причудливым образом, так что вам остается только гадать: где возрождение, а где – вырождение.
Профессор иерусалимской Академии художеств «Бецалель», Саша Окунь категорически отрицает существование еврейского искусства. Ну а о собственных работах отзывается просто: «крашу картинки – чаще здоровенькие, метра по три».

- Саша, твоя последняя выставка «Наблюдения» (Observationes) исследует человеческое тело в процессе старения. Ты наблюдаешь за тем, как оно увядает, ты показываешь носителей этих тел жалкими, отталкивающими, обрюзгшими. Презираешь культ тела, как в средние века?
- Ну господи Боже мой, ну все мы такие: ходим какие-то неумытые, неухоженные, ужасно несуразные… И неча на зеркало пенять. Я же просто наблюдаю – за человеческой природой. Мне вообще интересны человеки. Я сам – человек, и мне интересны существа моей породы. Мы ведь здесь находимся в таком героическом, историческом пространстве – а по нему ходит польский еврей со своим портфельчиком, и штанишки у него свисают, обнажая два полу*опия, и торчат из штанишек кривые, белые, мохнатые ноги, и вылезает пузо, которое он наел своими чолнтами, и на голове у него шляпка или кепка, и очочки. И он является вопиющим нонсенсом по отношению к этому пространству. Однако он же здесь живет, и он часть этого пространства – нравится нам это или не нравится с нашими романтическими взглядами на историю и мифологию.
- И с нашими закавыченными «идеалами красоты»?
- Идеалы красоты постоянно меняются – вряд ли сегодня рубенсовская женщина сможет получить место на подиуме в качестве манекенщицы. Точно так же вряд ли получит это место какая-нибудь дама со средневековой миниатюры с выгнутым буквой S животиком и тоненькими ножками. Людям, которые упрекают меня в неприглядности изображенных тел, я бы посоветовал посмотреть на статую Нефертити – с отвисшей грудью, с сильно выдающимся животиком – а она, между тем, была царица, фараонша, считалась идеалом красоты. Эти идеалы красоты люди отчего-то кушают – именно кушают, а не едят, потому что нормальный человек скажет «едят», а кушают – это какое-то лакейское слово. И тем не менее сегодня все себя подгоняют под Барби. Но мне это совершенно неинтересно. Мне кажется, что любое человеческое тело достойно, по крайней мере, сострадания. Это с одной стороны. А с другой – является неким материалом для работы. При чем тут эстетика? Я не пишу ничего дурного, я просто отказываюсь принимать диктат 90-60-90. И совершенно не понимаю, почему мы все должны ему соответствовать. Тем более что мы ему не соответствуем.
Что касается меня, то я как акын – что вижу, то пою. Знаешь, есть художники умственные, а есть художники реагенты. Скажем, художник Малевич случайно появился в России и был наполнен всякими авангардистскими безумствами. Его попытки сделать что-то утилитарное так чистым безумством и остались. Потому что в основе его работ лежала его собственная концепция о том, что такое хорошо и что такое плохо, он исходил из самого себя. Такие люди могут быть в любой стране, в любом месте и в любое время – художники, которые идут от головы. А есть художники, которые реагируют на все, что происходит – то есть реагенты. К ним я и принадлежу.




- Однако ты сочувствуешь персонажам своей человеческой комедии – несмотря на гротеск. И дамы-триумфаторши, оседлавшие кавалеров, на твоих картинах тоже выглядят не слишком: жалкий у них какой-то триумф…
- У Пелевина есть замечательная фраза: «в углу, старательно представляясь обнаженной, сидела голая женщина». Мы тоже – ходим голые, а хотим выглядеть обнаженными. Как же этому не уделить внимание? Такой уж у нас пейзаж. Вот когда я в Европе болтаюсь, то там все очень гармонично. И люди очень гармоничные, и в своем пространстве они исключительно гармонично располагаются. Едешь в каком-нибудь римском автобусе – и за рулем сидит какой-нибудь Нерон. Или Тит, в крайнем случае. Или во Флоренции или Сиене видишь женщину с тречентистским разрезом глаз, с длинным носиком уточкой. Потому что генотип сохранился, и они очень гармонично шастают посреди своих палаццо – несмотря на то, что одеты совсем по другой моде.
Хотя Европа, конечно же, меняется. В Париже, рядом с Гар дю Нор, я видел дивную картинку: в парикмахерской, в кресле, сидел молодой красавец-африканец. А над ним склонился обрюзгший старый француз – печальный, геморроидальный, с повисшим носом, с грустными глазами. И он завивал этому чудному африканцу косички. Однако, повторяю, все они там на своем месте.
- Среди твоих персонажей тоже есть такой милый пузатый старик, который ловит бабочек. Бежит он с сачком по пустыне – и пытается поймать иллюзию.
- На самом деле мы все занимаемся ловлей бабочек там, где их быть не может. Мы гоняемся за иллюзиями, и за этим занятием проходит наша жизнь. Вот такие мы смешные и неуклюжие. И душа наша стареет вместе с телом – еще как стареет, я это по себе знаю. Потому что душа – такой же орган, как руки, ноги, сердце – она изнашивается. Не мудреет, ведь мудрее ребенка трудно быть. Она ветшает. Поэтому, в противовес современной «красивой» культуре, я хочу сказать: есть старое тело, с обвисшими сиськами и животом, но в этом теле не меньше красоты, чем в каком-либо другом. И эти люди – жалкие, смешные, нелепые – тоже достойны сострадания и любви, как и все остальные.

- Вспоминается тезис Федора Михайловича о том, что страдание облагораживает.
- Я не думаю, что страдание облагораживает – тут я сильно не согласен с Федором Михайловичем. Когда человек страдает, из него лезет все самое пакостное, чего никогда не вылезло бы при иных обстоятельствах. На мой взгляд, страдание пробуждает в человеке самые страшные вещи. К слову, один мой товарищ однажды произнес целую речь о том, как плохо пишет Достоевский. И я с ним согласен, потому что намедни перечитал «Бесов» и понял – читать это невозможно. Мне слово «давеча», которое он через каждые три слова вставляет, в зубах навязло. Нет, есть гениальные ходы, но они в куче такого дерьма литературного… А дело в том, что Достоевский по-другому писать не мог. И я сказал приятелю: представь себе Достоевского, переписанного Набоковым (Набоков его, кстати, тоже терпеть не мог – о чем не раз сообщал в лекциях по русской литературе). Так вот, перепиши Набоков Достоевского, всё будет замечательно – но Достоевского не будет. Он может существовать только в своей жуткой, вязкой, болотной прозе.
- Ты и Бетховену не симпатизируешь – помню, как в одной из наших бесед ты сказал, что слишком уж он отягощает мыслью…
- Это я вспомнил Ренуара, и я с ним полностью согласен, кстати. Режиссер Жан Ренуар, сынок Огюста Ренуара, как-то играл на фортепиано. Подошел отец и спросил, что он играет. Моцарта, – ответил Жан. И папаша сказал: слава Б-гу, что не этого нелепого Бетховена. И объяснил, что Бетховен очень много о себе понимает, он очень собой озабочен. У него в животе забурчит – он сразу симфонию напишет. Ну, в крайнем случае, трио. А Моцарт собой не озабочен – ему хочется развлечь людей, или растрогать звуками, которые с ним не связаны, или что-то еще приятное сделать. Он себя убирает в тень. Я понимаю Ренуара, потому что каждому дорого свое бурчание в кишках. Если художник собирается передать свое бурчание в кишках, а зритель воспримет это как собственное бурчание, тогда все будет хорошо.

- Мне, однако, кажется, что если говорить о фортепианных сонатах, то бетховенские куда интереснее моцартовских. Может, как раз благодаря присутствию личности в произведении.
- Ну, я не вполне согласен. Возьми хоть моцартовскую фантазию. Это, конечно, не соната, хоть и для фортепиано – просто мне с ходу, пардон, именно про моцартовские сонаты не возразить. Что касается личности, то ведь здесь дело не в форме: вспомним альтовый квинтет, двадцатые фортепианные концерты, Концертную симфонию для альта и скрипки, Реквием, наконец. Нет, это личность уж никак Бетховену не уступающая. Вопрос, что именно для этой личности важно, как Станиславский говорил: я в искусстве – или искусство во мне. Может, я переврал цитату, но что-то похожее.
- Просто Бетховен стоял обеими ногами на земле и все про нас знал, а Моцарт тоже знал – про слабости наши и грешки, но он сидел на облачке и оттуда хулиганил. А по поводу личности – ведь было у них общее: как раз Моцарт в своих поздних концертах, начиная с двадцатого, создал модель для сборки нового типа – наделил солиста собственной музыкой, тогда как раньше тот твердил урок, заданный оркестром. Ну а Бетховен из этого такую роскошь сотворил, такого солиста-героя... Ладно, я о пяти его фортепианных концертах могу часами разглагольствовать, так что прервусь.
- В любом случае художник – будь то музыкант или живописец – ничего не творит, он только комментирует. По гамбургскому счету в этом мире существует только один Творец – тот, кто его создал. А создав человека и наделив его свободой воли, Он произвел на свет комментатора. Художник не создает и не копирует мир: он комментирует его. А поскольку у каждого свой уникальный набор генов, это обеспечивает бесконечное разнообразие комментариев. Собственно, это вполне еврейская идея: евреям дали Тору, и дальше они занялись комментариями. Написали Талмуд, потом еще один Талмуд, потом добавления к нему… И всё это были комментарии, помноженные на комментарии. Ведь на самом деле количество сюжетов безумно ограничено. Самым жестким был Хемингуэй, который сказал: есть всего две темы – отношения мужчины и женщины и поиск смысла нашего существования. Борхес был пощедрее – он полагал, что существует всего 4 сюжета. Самым щедрым был Аристотель – он описал 36 сюжетов. Но 37-й с той поры так никто и не смог написать.
Стало быть, мы, художники, не создаем сюжеты. Мы их рассказываем. Всё, что мы делаем – мы рассказываем одну и ту же историю, все время гуляя вокруг архетипических ситуаций. Но рассказываем по-разному, каждый – со своей интонацией. Точно так же, как все люди произносят одни и те же слова, признаваясь в любви – но интонация у всех разная. А поскольку наше постмодернистское время – это пространство цитат, сегодня неприлично просто сказать: «Я тебя люблю». Надо: «как писалось у Шекспира, я тебя люблю». Или: «как принято говорить, я тебя люблю».
- Что ж, в условиях искусственного мира искусство вынуждено идти искусственным путем. Как в таком случае отличить искусство от неискусства?
- Столярский однажды сказал одну гениальную (среди прочих гениальных) вещь: «ходить надо как на хорошие, так и на плохие концерты, чтобы знать как положительных, так и отрицательных недостатков». И это очень правильно. Однажды у меня с одной известной дамой – не буду называть ее имени – завелся спор об одном поэте. Она его защищала, я его ругал. И, наконец, я в запале сказал: он вообще не поэт! И она возразила: «Сашенька, вы ошибаетесь – он поэт, просто он плохой поэт». Потому что поэт может быть и плохим, и хорошим. А есть люди, которые могут написать кучу стихов, но они не поэты. Вот и в искусстве то же самое. К примеру, классическое искусство потому и классическое, что оно адекватно нашему времени. Та же Нефертити, о которой я упоминал, – это современная скульптура. И потому к ней все идут на поклон. Как к живой царице. Или вот, скажем, журналистика может быть блестящей, но это дело сегодняшнего дня. А поэзия – она на все времена. Во времена фараонов, во времена царя Соломона, скажем, тоже ведь были газеты какие-то, в которых писали и о том, как подати платить, и ругались, и склоки описывали вокруг соломоновых жен и наложниц. Где теперь те газеты? А «Песнь песней» и сегодня есть. И есть искусство, которое безумно интересно сегодня, потому что оно адекватно сегодняшнему дню. И мои люди, за которыми я наблюдаю, – они сегодняшние.



- В нашем мифологическом пространстве существует еще один миф, и касается он национального искусства. Существует ли для тебя вообще такое понятие – еврейское искусство?
- Еврейского искусства не существует, и никто так и не смог мне доказать, что оно есть. Обычно все доказательства сводятся к печали в глазах – но ведь это не критерий пластического искусства, правда? А когда заводят речь о еврейских художниках, сразу вспоминают Шагала. Да, Шагал всю жизнь рисовал евреев – ну и что? Да, у него люди по воздуху летают, так они и раньше летали. До дури народу кувыркалось в облаках – зайди в любую римскую церковь, там несколько сотен персонажей летают. Ну хорошо, у Шагала в воздух полетел еврей с пейсами – наконец-то. Ну и слава Б-гу. А дальше-то что?
Лучшее доказательство отсутствия еврейского искусства – это стена ханукальных подсвечников в Музее Израиля. Да, у каждого – девять рожков, но это единственное, что их объединяет. Поскольку один подсвечник – чисто французская готика, другой – итальянское барокко, третий – немецкий неоклассицизм. Это все равно как есть бразильская лягушка, у нее пятнышки на спине зеленые, есть лягушка суринамская, здоровая такая жаба, есть российская лягушка. И все они лягушки. Вот только сколько бы они ни старались, общего потомства у них не будет. А девять рожков могут быть не только в еврейском подсвечнике, но и в русском, к примеру.
- А израильское искусство, на твой взгляд, существует? Или в нашем мире с его глобализацией говорить о локальном, национальном искусстве вообще не приходится?
- За 100 лет национальное искусство не создается. И то, что у израильтян его нет, не их – и не наша – вина. Очень сложно сложиться национальному искусству так поздно, да еще в условиях открытого мира. У нас, евреев, ведь все повернуто с ног на голову. Ведь как происходит искусство? Сперва появляются ремесла, магия и так далее. В пещерах, допустим, были утилитарные изображения, магические, нацеленные на то, чтобы охота хорошо сложилась. Да, там была эстетическая составляющая, потому что древние люди украшали свое жилище. Иными словами, у корней искусства стоят две потребности: эстетика и магия; потом идут ремесла, керамика и т.д. И только потом появляется то, что мы называем высоким искусством. Тем, которое существует во имя самого себя. А в Израиле все получилось наоборот: приехал Борис Шац из Литвы – и давай насаждать ремесла. И учинил в 1906 году академию «Бецалель». Все эти ребята из «Бецалеля» – дивные, замечательные, но все, что они делали, это был абсолютно европейский ар нуво в ориентальной упаковке. Их винить за это нельзя, так они жизнь эту понимали. Потом появились люди другого поколения – и прежних затоптали. Потом прилетели ребята из Германии с баухаузом, экспрессионизмом своим, потом появились ханаанцы – «кнааним», консервативные романтики, шатобрианы местного разлива. Дико симпатичные мне люди, которые заявили, что 2000 лет не было, начнем все с начала. Но и их быстренько затоптали «Новые горизонты» с их лирическим абстракционизмом. То есть ничего не успевало укореняться.
Знаешь, что сказал однажды Пикассо – кстати, дико умный был мужик: «Самая большая беда современного искусства в том, что нет достаточно сильной академии». То есть – нет врага. И здесь у нас то же самое происходило. Все друг друга уничтожали – потому что не было традиции, не было врага, не было, с кем бороться. А дальше, как только появились новые материалы, как только произошел отрыв от изобразительной традиции в концептуальное искусство (я говорю о второй половине 20 века), как только появились компьютеры, новые технологии, то израильтяне очень высоко взлетели. И теперь делают работы на очень хорошем, мировом уровне. Но именно мировом – потому что пластической традиции здесь нет. Потому мы и живем в таком пластическом безобразии. И привержены поганой американской эстетической концепции, то бишь мерзкому симбиозу золота и пластмассы.
- А если бы тебя спросили, существует ли американское искусство – что бы ты ответил?
- Я бы сказал, что американское искусство появилось достаточно поздно – по большому счету, тогда, когда американцы оказались в изоляции. То есть во второй половине 20 века, когда они перестали ездить в Европу из-за Второй мировой войны. Я поп-искусство не люблю, не люблю Лихтенштейна, но это не значит, что его нет. Например, я терпеть не могу Сальвадора Дали. Потому что Дали очень прост. Между тем ранние его работы очень талантливы. И я очень люблю Дали-писателя. Но в живописи он меня ничем не удивляет, он просчитывается на уровне дважды два четыре. А рядышком был Бальтюс – вот там все иное. С израильским искусством проблема в том, что мы им – правда, по независящим от нас причинам – начали заниматься с огромным опозданием. Скажем, чем занимаются наши политики? Тем, что было в Европе 400 лет назад, когда воевали с соседями и определяли границы.
- То есть, пока наши евреи друг друга локтями расталкивали, они тем самым лишали себя пластической традиции?
- Есть куда более серьезная причина. Евреи, просто-напросто, народ слепой – они не могут думать глазами. И тому есть простое объяснение. Чтобы не быть слепым народом, надо жить на одном месте в течение сотен лет. Только тогда народ может выработать свое отношение к пластике. Потому что пейзаж, свет и все прочее формирует некий коллективный глаз народа, формирует его отношение к пространству и так далее. У нас же ничего этого не было. Поэтому евреи не думают глазами. Пример тому – вопиющее безобразие наших синагог. Да и вообще, если ты посмотришь вокруг – нам не оскорбительно жить на помойке, нам не оскорбительно ходить по безобразным улицам, нам много чего не оскорбительно, потому что мы не думаем глазами. И свадьбы у нас проходят в промышленных зонах, которые завалены каким-то дерьмом. Заметь, человек идет бракосочетаться, рассчитывая, что это на всю жизнь – и куда же он идет? Потому что нам это все равно. Нам не оскорбительно видеть пластическое непотребство.
А вот итальянцы, к примеру, думают глазами. Церковь в Ассизи, куда я поехал смотреть фреску Пьеро делла Франческа, оказалась на реставрации. И что ты думаешь? Они там выстроили леса (а строительные леса ведь во всем мире – одно и то же: пара труб и соединительные элементы), вроде как у всех. Но итальянцы не могут, чтобы торчал внутри собора какой-то элемент, который не соответствует интерьеру. Поэтому они выкрасили трубки в черный цвет, а соединительные элементы – в золотой. Получилась гениальная совершенно скульптура, причем абсолютно церковная. Или в ренессансных церквях – заходишь, а на алтаре стоит букет лилий, с тонким рисунком, с божественной линеарной структурой, с удивительной, благостной короной. Не случайно деву Марию часто изображают с лилиями в руках… Или заходишь в барочную церковь, а там на алтаре – огненный гладиолус. Итальянцы это чувствуют, они просто так живут, для них это важно. Возможно, и у нас это когда-нибудь появится, но пройдет еще много времени, прежде чем мы преодолеем этот пластический хаос.


- Есть у нас, однако, свой итальянец – Саша Окунь. И лица на его картинах – как на фресках эпохи Возрождения. И ими вполне можно было бы расписать потолок Сикстинской капеллы.
- Я бы хотел красить фрески, но мне никто стенки не дает. И потолок Сикстинской капеллы уже расписан, и расписан очень качественно. Кстати, когда я в первый раз его увидел, то ужасно разочаровался. Подумал: надо же, они уже в то время потеряли чувство стены… А потом японцы все это дело отреставрировали, всю эту грязь смыли – и это оказался гениальный комикс. Первый в мире комикс с совершенно дикой гармонией цвета, неслыханной и невиданной. В общем, поскольку Сикстинскую капеллу меня расписывать не приглашали, пришлось строить свою маленькую Сикстинскую капеллу. Но другую. Микеланджело жил в героическое время – а кто у нас герои? Мелкие и противные. Хотя стремления-то у них всё те же… И они тоже летают, но как-то убого летают. Вот мне Игорь Губерман рассказывал – у него был приятель, директор лечебницы для душевнобольных в Киеве. И он Игорю сказал: «Какое мелкое, жалкое поколение! Сходит с ума сержант – он капитан; у меня в больнице нет ни одного Наполеона. Сходит с ума продавщица – она завмаг; у меня в больнице нет ни одной Клеопатры. Ни одного Александра Македонского, ни одного Иисуса Христа…»
- Да, мельчает народ…
- А как иначе? Вот у меня есть любимый музей в Риме – палаццо Массимо. И там есть гениальные фрески – лучше с тех пор ничего не накрасили. Так вот, есть там одна чудная такая фресочка, маленькая-маленькая: стоит женщина на коленях, и перед ней стоит мужик. И она на ладошке держит его хуек. Так трогательно как-то его держит. И вот, глядя на эту фреску, я понял, что это был абсолютно другой мир. Это был мир, в котором не было греха. Понятие греха мы им навязали через христиан. А в том мире были трагедии, были убийства, были всякие жуткие вещи, но греха не было. И поэтому всё в нем заслуживало внимания, и ничего не заслуживало отвержения. Это был такой мир, в котором всё – открытие. А мы его испортили, и эта изумительная наивность исчезла.
- Но ты все-таки пытаешься ее вернуть. И при этом не пишешь с натуры, так ведь?
- Нет, мне никто не позирует. Я могу воспользоваться натурой в самом конце, для поиска каких-то маленьких деталей. Но все герои моих наблюдений, разумеется, на кого-то похожи. На моих друзей, на ушедших друзей, на моего дядю покойного – может, они просто захотели воплотиться? А дама одна похожа на мою одноклассницу, но дико постаревшую.
- Мне тут в голову пришло: еврейская (уж прости) традиция запрещает изображение человека – если в оном нет изъяна. Не причуды ли это твоего подсознания, подсказавшего, как избежать запрета?
- Ко мне в Париже как-то попал в мастерскую весьма достойный раввин. Ходил он, смотрел – а у меня там были развешаны всякие наброски обнаженки – и вдруг стал меня нахваливать. Я ему говорю: как же так, здесь же голые тетки. А он: я не вижу здесь никаких голых теток, я вижу композицию, линию, текстуру… И он мне этим очень понравился, потому что я всегда знал, что евреи – народ исключительно ушлый и всю жизнь положили на то, чтобы обманывать себя и господа Б-га. А тут… Я его спросил: вот вы, как просвещенный раввин, скажите – что вы думаете по поводу запрета на изображение в еврейской традиции? И он весь скукожился, мину скривил: перестаньте, ну что вы, это глупые люди говорят, что они вообще понимают в иудаизме! Ничего иудаизм не запрещает, делайте вы всё, что хотите, и как хотите, просто если уж хотите, то, когда будете ваять реалистическую фигуру человека, то на левой ноге, на мизинце, не делайте ему ногтя. Этого будет достаточно.
То есть все опять сводится к тому, что не надо копировать. Копировать любое живое – это оскорбление господа Б-га. В этом смысле есть интересный ход у Умберто Эко – в лекции «6 прогулок в литературных лесах». По ходу этой лекции Эко задался вопросом, можно ли научно определить, является фильм порнографическим или нет. И, просмотрев изрядное количество неприличных фильмов, пришел к выводу, что существует одно нерушимое правило. Если для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, двум киногероям требуется столько же времени, сколько в реальной жизни, мы можем с полной уверенностью утверждать, что имеем дело с порнографией. Иными словами, копирование действительности есть порнография и ничто иное. Я, например, не знаю ни одной более порнографической картинки, чем портрет Рабина в штаб-квартире партии Авода.
- Получается, что настоящее искусство – это ready made? Там ведь никто не копирует велосипедное колесо, к примеру. И стол не пытается представиться столом, поскольку таковым является...
- Это просто другая игра. Я как раз сейчас провожу со студентами курс анимации, там строят морды и морды рисуют. Я прошу их нарисовать улыбку, гнев, радость, смущение. И они начинают копировать. А я им говорю: вы рисуете брови, вы рисуете губы, а надо рисовать смущение. Не копируйте, это не поможет. И только когда вы поймете, что губы, нос и рот – это некие слуги, некие элементы, при помощи которых вы можете произвести определенную манипуляцию, вот тогда это заработает. Тем же студентам я предлагаю перевести с английского фразу «to pull somebody's leg». И они переводят буквально: «тащить кого-то за ногу». А идиома эта означает «надирать кого-то». То есть, чтобы передать правду, надо соврать в каждом слове. Надо манипулировать зрителем, наврав ему так, чтобы он думал, что ты копируешь.


- Может, нынешние студенты академии «Бецалель» все-таки тоже начнут наблюдать – а не оглядываться на Америку?
- Единственная проблема израильтян – комплекс провинциала. Мы провинциалы не потому, что живем далеко от центра, а только потому, что признаем наличие центра. Провинциал – это человек, для которого есть понятие столицы. А когда у человека нет понятия столицы, он уже не провинциал, он самодостаточен. В этом смысле лучший пример – армянское искусство. Когда я был в Ереване и общался с армянскими художниками, им было очень трудно признать, что Лувр – тоже музей. Потому что свой музей для них важнее. И поэтому они создали свое, самобытное, абсолютно ни на что не похожее искусство. В ту секунду, когда наши студенты перестанут листать журналы и будут смотреть в окошко, тогда у нас произойдет что-то свое. А до этого мы в лучшем случае будем на втором месте, потому что всегда будем гнаться за лидером.
- Значит, так и останемся без традиции?
- Мы склонны путать два понятия: «традиционалисты» и «революционеры». В искусстве все великие революционеры были на деле самыми преданными традиционалистами – вспомнить хотя бы Матисса. Революционер ведь что делает? Ухитряется честно смотреть на традицию, открытыми глазами, без мутных очков. И обнаруживает то лицо традиции, которое до поры было скрыто. У традиции – бесконечное количество фасадов, и она всякий раз поворачивается к счастливчику своим новым лицом – потому что у него было мужество в это лицо посмотреть. А те люди, которых называют хранителями традиций, на самом деле охраняют надгробие этой традиции, охраняют могилку. А традиция – вещь живая: она уже давно сбежала, и могилка осталась пустой. А она уже пляшет в другом месте и спит с другим человеком.

- В нашем цифровом мире, увы, все уже спят друг с другом: люди Сети настолько связаны сетью, что кажется, будто все мы – части одного тела. Как по-твоему, чего в этом больше: свободы – или несвободы? Когда граница между собой и другим растворяется?
- Я, например, ни к кому не подключен. Стараюсь жить приватной жизнью, стараюсь быть малозаметным и мало интересуюсь другими людьми. Тем самым я пытаюсь сберечь свою жизнь. Мне хорошая книжка дороже, чем эксгибиционизм в социальных сетях. Я принадлежу к тому поколению, которое полагает: чем меньше про меня знают, тем лучше. И я не собираюсь оплачивать информацию атрофией душевных и вкусовых пупырышек.
- Многих нынешняя цивилизация гонит в глушь, побуждает стать дауншифтером, отказаться от сомнительных ценностей, навязанных социумом. Искусство в то же время становится все более нарциссичным, все более укутанным в теорию.
- Да Б-г бы с этой теорией… Живопись может быть какой угодно – если это живопись. В ней может быть сюжет, в этом нет ничего дурного. Она может быть абстрактной и конкретной. Малевич говорил: сколько можно коров, сколько можно барышень с зонтиками? Он был абсолютно прав – но только он не учел того, что можно и так сказать: сколько можно треугольников и квадратиков? Он них ведь устаешь не меньше, чем от барышень с зонтиками. Вот я был как-то на большой выставке Мондриана в Кельне. Я не люблю этого художника, но там был виден весь его путь к этим квадратикам – как его глючит, как его заносит, как он мучительно идет. И в этом пути был свой интерес, свое достоинство. И вот он наконец добрел. И как только он добрел, стало так скучно – дальше некуда. Видеть подряд пять залов, наполненных этими картинками, невозможно. По счастью, вошла горсточка девиц – видимо, школьниц, их привели на экскурсию – одетых в платья в клеточку. Мондриановскую. Так это было такое счастье – они по крайней мере хоть шевелились.

- И все-таки: к какой традиции принадлежит художник Окунь?
- Как я себя понимаю, мои традиции – это итальянское Возрождение, скорее даже, итальянский маньеризм. Какой-то составляющей меня, бесспорно, является русская культура смешного, абсурд обэриутов. Наверное, есть еще много чего, но не мое это дело – заниматься самоанализом. И, конечно, поиски здешних людей тоже – если б я не жил в Израиле, я никогда бы не красил такие работы. Как сказал Шай Агнон в своей Нобелевской речи: из-за злодея Тита я родился в Бучаче, а должен был родиться в Иерусалиме. Точно так же и я: из-за злодея Тита я родился в Питере, а должен был – где-нибудь в Риме. Во всяком случае, в Средиземноморье. Но это касаемо пространства. А что касаемо времени, то я родился в двадцатом веке, живу в двадцать первом, а умру всем назло в семнадцатом. |