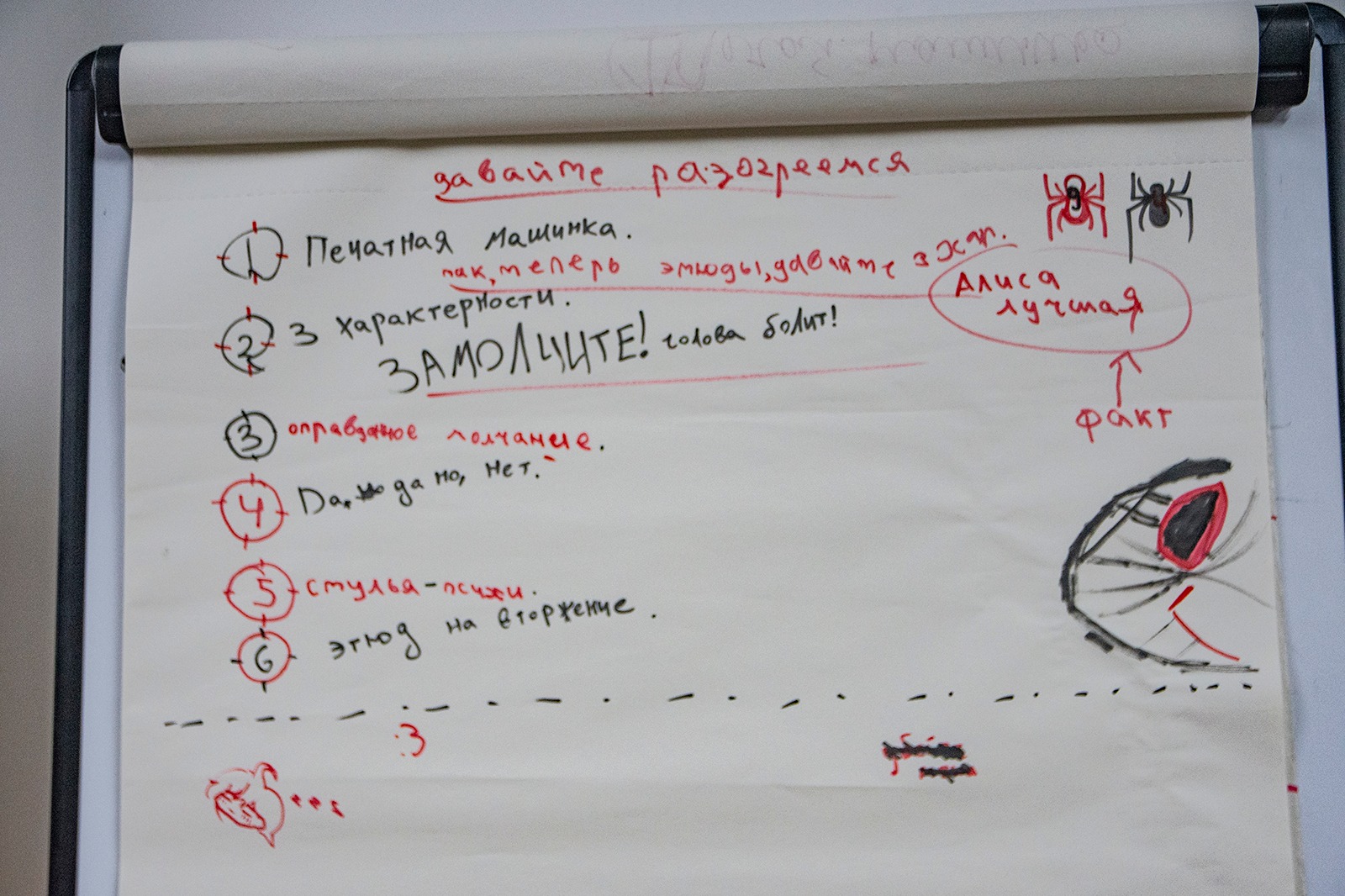Один из самых неординарных режиссеров современного кино о шестом чувстве, о Кейптаунском порту, о русском Ватикане и о том, что времени нет
Фильмы Александра Велединского – удивительная партитура звуков, смыслов, видимого и невидимого. Он легко сводит контексты, шьет из тонких материй фраки и шинели, позволяет сапиенсам бродить по далековатым земным пространствам, утопая ногами в звездной пыли, водит за нос время. Дух и плоть рождают партитуру, построенную на филигранных полутонах, остроумии и грубой нежности; наверное, это и есть постмодернизм высочайшей пробы, да с фантастическим драйвом, даже в «медленных» эпизодах – вот и гадайте, как это ему удается.
Ровно через месяц новое кино Велединского появится в Тель-Авиве – непременно приобщитесь к этой раритетной симфонии эмоций, где каждое чувство ведет свою партию.
– Более всего хотелось бы, как Онегину, «без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка». Но у нас есть главная тема, тель-авивский киномарафон «MAVO CINEMA TALK 2019 – «ОКНО В ЕВРОПУ», на котором представлен ваш opus magnum «В Кейптаунском порту». Кстати, название «Окно в Европу» – это ассоциация с Петром или...
 – Думаю, что это, скорее, историческая коннотация. Ведь речь не о том фестивале, который открывает участвующим в нем фильмам дорогу в Европу. Это просто связано с историей города Выборга, где фестиваль проходит – города, который был финским, потом стал советским, российским. Ну и он ближе всех к Европе – в петровском даже понимании, ну и в нашем. Когда-то так назвали, теперь уже об этимологии и о смысле никто не думает, привыкли. Мы вообще мало о чем задумываемся, поскольку много необъяснимого вокруг. Вот, скажем, дети, рожденные сегодня, сразу садятся за компьютер – у меня две маленькие дочки, я это точно знаю. И два сына, один родился в советское время, в 1986-м, другой в 1992-м, уже в России. И у них абсолютно разный менталитет. У одного отношение к вещам одно, у другого другое. Я до сих пор разобраться не могу, отчего так происходит. Один четыре года застал советской власти, другой появился на свет в постсоветскую эпоху, и у них абсолютная какая-то разница. Я ее чувствую, но не могу сформулировать до конца, хотя стараюсь. – Думаю, что это, скорее, историческая коннотация. Ведь речь не о том фестивале, который открывает участвующим в нем фильмам дорогу в Европу. Это просто связано с историей города Выборга, где фестиваль проходит – города, который был финским, потом стал советским, российским. Ну и он ближе всех к Европе – в петровском даже понимании, ну и в нашем. Когда-то так назвали, теперь уже об этимологии и о смысле никто не думает, привыкли. Мы вообще мало о чем задумываемся, поскольку много необъяснимого вокруг. Вот, скажем, дети, рожденные сегодня, сразу садятся за компьютер – у меня две маленькие дочки, я это точно знаю. И два сына, один родился в советское время, в 1986-м, другой в 1992-м, уже в России. И у них абсолютно разный менталитет. У одного отношение к вещам одно, у другого другое. Я до сих пор разобраться не могу, отчего так происходит. Один четыре года застал советской власти, другой появился на свет в постсоветскую эпоху, и у них абсолютная какая-то разница. Я ее чувствую, но не могу сформулировать до конца, хотя стараюсь.
– А надо ли?
– Я не атеист, поэтому полагаю, что во всем этом в хорошем смысле «виноват» Господь. Спасибо ему за то, что так что-то происходит в жизни, что-то меняется. Это то, что словами не объяснить. Есть вещи, которые потрогать нельзя. Я с продюсерами не умею разговаривать поэтому. Они спрашивают: а что у тебя будет за фильм? Я говорю: сценарий читали? – Да. Вы меня знаете? – Да. А чего спрашиваете? Меня объяснить очень тяжело. Потому что есть вещи неосязаемые, как у Гумилева «Шестое чувство», помните? «...рождая орган для шестого чувства». Какой орган, чего?.. На таком уровне всё происходит на самом деле.
– Ну, у вас и в сценариях это ощущается, которые без шестого чувства нам не дано предугадать. Вот мне в душу запала фраза персонажа «В Кейптаунском порту»: «Мы уже были когда-то мертвые – то есть нас не было до рождения. Хотя это неточно». Такое вот вневременное бытие.
– Да, Андрюша Позднухов (Бледный) это говорит, из российской рэп-группы «25/17». В сценарии этой фразы не было, она импровизационно родилась, на площадке. Влияние же мы испытываем в любом случае. Я, когда снимал, был увлечен романом Евгения Водолазкина «Лавр», часть действия которого, кстати, происходит в Иерусалиме. Это великая книга. Мы с Женей подружились с тех пор, он ученик Лихачева, профессор, доктор наук филологических, большая умница. «Лавр» – второй его роман, роман-житие, который прославил его на весь мир. И там о времени очень много. О том, что времени нет. Скажем, один из героев, итальянец Амброджо, полагает, что «мы заперты во времени из-за слабости нашей». Еще фильм «Интерстеллар» Кристофера Нолана повлиял, его идея о замедлении времени, ну и опять-таки о том, что времени нет.
– Оттого ваш «кейптаунский» фильм наполнен флешфорвардами и флешбэками, и повествование в нем нелинейно: действие происходит в 1945-м – и полвека спустя, в 1996-м. Что значит для вас прием несуществующего, или продленного, или утраченного времени?
– Когда я писал сценарий, а писал я его 22 года назад, я, может быть, так глубоко не вникал, но потом понял, что какую-то ухватил мысль – именно в метафизическом смысле. А вообще история была про то, что три человека убили друг друга и каждый из них на самом деле думает, что убил, а все живы. И мне интересно было разобраться, как они теперь живут и кем они стали. И воспоминания у каждого из них свои. У одного – солнце, и эта сцена в солнце была снята, у другого – туман, и эта же сцена была снята в тумане, у третьего – ливень, и эта же сцена была снята в ливень. У каждого свое воспоминание. Такой вот привет Куросаве. В общем, есть некий сюжетный узор, в котором параллельные жизни трех персонажей переплетаются постоянно, да еще с отсылками в 45 год, и даже в 26-й... Поэтому фильм не все воспринимают.
– А что, зритель так любит линейное повествование?
– Да понимаете, молодой зритель уже спокойно относится к нелинейному. И как раз молодые фильм-то восприняли в большей массе неплохо. Я не хочу никого обижать, но люди, чуть-чуть что-то понимающие, читавшие что-то, смотревшие, интересующиеся жизнью в мире считывают очень многое в этом фильме. И для них это не проблема, способ рассказа нелинейный.
– Не хочу тоже никого обижать, но мне кажется, что «В Кейптаунском порту» –вообще какое-то нерусское кино...
– А меня как раз обвиняют в том, что оно очень русское и потому его не всегда западные фестивали берут.

– Правда? Ну, из русского здесь, на мой взгляд и слух, разве что феномен, который Марк Липовецкий и Биргит Боймерс назвали «Перформансы насилия». В книжке своей о важнейшем феномене русской культуры последних десятилетий, отражающей, собственно, состояние общества, где (цитирую) насилие – физическое, психологическое или дискурсивное – стало одной из основных форм социальной коммуникации, метанарративом, поглотив и подчинив себе все иные социальные языки. С другой стороны, насилие ведь и в американских фильмах встречается, и в европейских... У вас же это уникальный авторский язык.
– И ваше мнение достаточно уникально, спасибо вам за это. Я чаще сталкиваюсь с другим, когда отборщики фестивалей говорят: нам очень нравится кино, но оно не пойдет, потому что оно слишком русское. Наверное, потому, что оно про нас. И пусть часть фильма мы снимали в ЮАР, но все равно это кино про нас, про нашу страну, про наших людей.
– И про ангелов, поющих «Дубинушку». И про оружие в футлярах от музыкальных инструментов. И про роды в зале Эрмитажа, под «Данаей» Рембрандта.
– «Даная» Рембрандта была принципиальна, потому что в нее плеснули кислотой.
– «В Кейптаунском порту» ждал своего часа двадцать лет. Что происходило со сценарием за эти годы? Он старился, как хорошее вино? Наливался соками?..
– Знаете, я им болел, все время пытался куда-то пропихнуть, какие-то обстоятельства мешали, кризис мировой финансовый 2008 года, или смерть Олега Ивановича Янковского, который должен был играть одну из ролей... Всегда что-то такое происходило. Так вот, я им болел, но не скажу, что я им горел. Я не горел. У меня было чем заняться всегда, я снимал другие картины, все было достаточно сложно, не было средств, возможностей, потом его долго монтировали... Мы ведь четыре года делали фильм, 27 августа 2015 года начали первый день съемочный в Питере, в День кино, и ровно через четыре года в этот же день в Питере была премьера.
– Фильм ведь начался с вашего отца?
– Да, это правда. Хотя отец вообще не очень любил про войну рассказывать, говорил – это грязь, это мразь, больная эпоха. Он воевал во Вторую мировую и в Отечественную, участвовал в том числе в японской кампании, служил на Черноморском флоте, а потом в 1944 году их перебросили на Дальний Восток. Ему двадцати лет не было. Он в 1925 году, в декабре родился, представьте, мальчишка, 19 лет, а уже две войны. Окончил школу юнг на Соловках (я как раз сейчас про Соловки доделываю картину, про 27-й год) – ее называли «школой юнгов», как того требовали тогдашние правила орфографии. Ну так вот, мальчишкой он попал в такую передрягу: его остановили штрафники, которых прислали с Западного фронта, их было шесть человек – в фильме их двое, я по-своему сделал все это, – и он ни в кого не стрелял, потому что у него оружия не было. Я переосмыслил эту историю, но интенция, посыл был от отца, от того, как он мне это рассказал.
– Интересно, что началось всё с отца, а снимали вы фильм вместе с сыном.
– Со старшим сыном. Я думаю, что без него вряд ли бы справился до конца с этой картиной, потому что он, в отличие от меня, интроверт, но при этом очень упертый, очень понимающий и очень требовательный. Он даже снялся там в эпизоде, матроса сыграл в Кейптауне. Я с ним советуюсь, начиная с «Географа» («Географ глобус пропил» – предыдущий фильм режиссера), он мой главный советчик, мы и монтируем вместе, и снимаем. В «Географе» он был хлопушкой, ну и сам снял несколько сцен. И потом сериал был «Ладога» с Ксюшей Раппопорт, где он очень многое сделал, и над «Обителью» сейчас вместе работаем. Он пахарь, он вкалывает. У меня он режиссер второй группы, ему доверяют эпизоды снимать, придумываем что-то вместе. Хотя ему пора уже действовать самостоятельно, он уже готовый кинематографист. Не сынок, что называется.
– У вас вообще какой-то династический фильм получился: Пахана играют Арсений Робак / Александр Робак, Салажонка – Данил Стеклов / Владимир Стеклов...
– Да, там Стекловы оба, и внук и дед, и Александр Робак с Арсением, молодым артистом, очень перспективным, на мой взгляд. И дочка моя снялась там, когда ей было четыре года – помните, девочка с бантиком, крупный план – как раз во время родов в Эрмитаже, моя третья жена играет роженицу, а дочка смотрит на это.
– При этом там так всё звучит... И визуально, и акустически. Блатные песни – и Lacrimosa Моцарта. Песня «Аквариума» про 15 голых баб и дворовая баллада про 14 французских морячков... Кстати, лейтмотив фильма – это ведь перепев песни на идише «Бай мир бисту шейн»?
– Именно так, музыка Шолома Секунды из старого бруклинского мюзикла, ставшая шлягером на всех континентах, а слова Павла Гандельмана, ленинградского девятиклассника, сочинившего их в 1939 году. Он даже авторством не обладал за эту песню... Кстати, умер он не так давно, до девяноста с лишним лет дожил. Существует несколько вариантов этой песни, мы взяли один из них, Саша Скляр и Гарик Сукачев поют.
– Человек с тонким слухом почувствует, как сливаются в вашем кино кадр и звук. Вспомнилась сейчас сцена в лодке из картины «Географ глобус пропил»: беседа героев, плеск воды и звучание тувинского инструмента с жутким названием игил...
– Это тоже случайность была на самом деле, импровизация, придуманная на ходу. У одного из наших из звуковиков, который микрофон держит (микрофонщики называют их), был вот этот инструмент. И он в перерывах, в переездах тренькал на нем. Я спросил: что это у тебя такое, дай-ка посмотреть. И понял, что это вещь прекрасная, и предложил: давай снимем ее. И она точно легла в картину.
– Жанрово «В Кейптаунском порту» обозначен как «фильм-квест». А вы сами как его обозначаете?
– Я такого слова не знал, когда писал сценарий, когда снимал, потом уже его так назвали. Чтобы осовременить. По-моему, это трагикомедия. Там нет чистого жанра. Тот же Евгений Водолазкин, когда был в Питере на премьере, сказал: зал смеялся, а мне грустно, а мне страшно, ты же трагедию снял. Но там же юмор есть, говорю, а он: конечно, есть, но это же трагедия. Трагедия страны, трагедия времени. Конечно, трагедия. Но я без юмора не могу. Мне скучно.

– Постмодернистская ирония, не иначе.
– Не без этого, конечно. Как говорится, постмодернизм на службе традиции.
– Вообще как вы к этому слову относитесь?
– К постмодернизму? Нормально. Есть великие вещи, Барнс, к примеру. Забавно, что если вы откроете Википедию, чтобы прочесть про Эдуарда Лимонова (я по его произведениям снимал фильм «Русское»), то там написано, что жанр, в котором он работает, это постмодернизм. А у него постмодернизмом и не пахло никогда.
– Раз уж мы о постмодернизме, вернемся в эпоху цитат. Кейптаун – это рай на Земле, сказал когда-то Киплинг. С этим тоже связано название фильма, его тональность?
– Ну да, мой герой услышал цитату из Киплинга о том, что Кейптаун – это рай на Земле, и рванул туда. Это обыгрывается в фильме, фраза о том, что, побывав в Кейптауне, некуда больше стремиться. Вообще это сюжетная вещь, она повторяется два с половиной раза, как положено по драматургии, потому что именно тогда она заседает в голове зрителя. А мне надо было, чтобы она засела. Один раз мой сын ее произносит, кстати, а потом Даня Стеклов-младший.
– Процитирую вас еще. Если есть зло, значит, есть и добро, говорит один из ваших персонажей. А что из них перевешивает?
– Я не сразу это понял, говорит он, я много зла сотворил зла в жизни, пока не понял, что если есть зло, есть и добро. То есть если есть черное, обязательно есть и белое. Если есть белое, обязательно есть черное. Они всегда взаимодействуют. Вот представьте, что всё белое. Это рай. Действительно, рай. Тогда чего не будет? Не будет искусства, в первую очередь. Лютни одни останутся, и всё. Вот и парадокс. Мы стремимся жить по заветам, а это исключает зло... О Господи, люди головы ломали веками над этими вопросами, а мы хотим с вами за час их решить...
– Ну а если все-таки пофилософствовать: вот были мертвы, воскресли – а что дальше? Предопределена ли наша участь на этой Земле? Свобода выбора или фатум? Кто пишет нашу человеческую судьбу?
– Что касается свободы выбора, я думаю, что Господь нас не роботами создавал, и свободу выбора он, конечно, нам дал. И теперь он смотрит, что мы выберем, вот и все. Как мы живем. Потому это и Моисея заповеди, и в Новом завете тоже эти заповеди, несколько модернизированные в Нагорной проповеди. Десять заповедей на самом деле – это определяющие десять сюжетов. Их же больше нет, все крутится вокруг этих десяти. Что Моисей сказал, что Христос повторил. Вот и все.
– Получается, за нас кто-то уже все написал, и надо себе только один из сюжетов выбрать? Сюжет собственной жизни?
– Ну нет, наш сюжет может меняться. Вот тут как раз наша свобода выбора и проявляется. Потому что-то нам дается как испытание. Я человек верующий, мне атеистов искренне жаль. Я не воюю против них, и с хоругвями не хожу, но мне просто искренне жаль, что люди что-то воспринимают как мрак, а это свет.
– Историю придумали люди, чтобы форматировать реальность, говорит один из героев «В Кейптаунском порту». Свои прежние истории вы снимали в формате придуманных кем-то реальностей – там уже была чья-то литературная основа...
– Ну, я считаюсь в стране главным экранизатором (смеется).
– А вот в Кейптаунском порту – ваша собственная литература.
– Да, это оригинальный сценарий. Я вообще мечтал им когда-то дебютировать. Поскольку написал в 1997 году. А в 1998-м принес его Сергею Михайловичу Сельянову и Балабанову Лёше, им понравилась моя короткометражка студенческая, так вот, они прочли и сказали: старик, а подешевле ты чего-нибудь не мог принести? Конечно, они меня не запустили, потому что по 1998 году это было запредельно дорого. Сегодня технологии помогли его снять во многом, тогда-то их не было.
– ...И там, в вашей литературе, кто-то пишет свою пьесу, а кто-то мечтает сыграть Отелло.
– Этого требует еще и сюжет, чтобы объяснить какие-то вещи. Как жил человек. Один стал писателем, драматургом известным, хотя все лучшее написал в первой своей книге, после того события; и потом 50 лет писал, чего изволите. А потом он опять садится писать... но это уже спойлер.
– В каждом ли из ваших персонажей живет ваше alter ego?
– Ну конечно, а как же иначе? Во всех, и в положительных, и в отрицательных, и в женщинах, и в мужчинах, и в детях, и в собаках. То есть независимо от гендера, возраста или характера. Если ты это пропускаешь через себя, если вживаешься в персонажа, ты всегда в нем проявляешься. Иногда персонаж тебя за собой уводит – ты задумал одно, а получилось другое. Но ты все равно в нем. Если просто профессионально работу свою выполнять, это будет хорошо, но холодно. С холодным носом, я думаю, нельзя делать кино.
– Ну а если это, скажем, географ Служкин в исполнении Хабенского, к которому цепляется столько аллюзий? Вялый интеллигент, неспособный к нонконформизму, который на подлость отвечает свинством? Он вам антипатичен?
– Нет, я его люблю. И я вам объясню, почему. Этот герой вообще-то и в мировом участвует контексте, но больше все-таки из русской литературы. Почему во всем мире любят Чехова и Достоевского в первую очередь, ну и еще Толстого? Потому что это квинтэссенция того, что принесла в мир Россия, ее литература и искусство. Людей душевно одаренных, духовно. Он же, Служкин, свои корни от Достоевского, от Гончарова, от Гоголя берет. И новейшие там уже, Вампилов с его Зиловым, и «Полеты во сне и наяву». Меня как-то спросили на пресс-конференции, помню, на Кинотавре: сцена на качелях, она же похожа на сцену финальную «Полетов», только у вас она в середине фильма, а там в конце, зачем вы это сделали? Я ответил: ведь Служкин же это все видел. Он же этот фильм смотрел. А поскольку мы все живем в постмодернистское время, и мы все равно все цитируем, и мы сами напичканы цитатами, это непроизвольно даже получается. Он не мог не вспомнить о фильме, наверное, это у него в крови уже. Интеллигентный человек не мог этот фильм не смотреть, правильно?.. Так что Служкин для меня – это боль, но я его люблю.
– Он, конечно, типично русский персонаж. Но если вдуматься, в русской литературе – сплошные лишние люди, или Раскольниковы, или Рахметовы, и нет никого положительного, кроме трех богатырей...
– Служкин, безусловно, не «маленький человек», не лишний, даже не идиот. Скорее, он шут гороховый, юродивый, через которого просвечивают наши грехи. Это заслуга Алексея Иванова, автора романа, он этого персонажа, Служкина, вывел и совместил его со всеми, а мы не дали этому раствориться в фильме, на экране.
– А что обычно остается? Вы пишете сценарий построчно, или поверх книжного текста, и как драматургия кинематографическая взаимодействует с книгой? Это же разные медиумы?
– Иногда кажется, что книгу легче экранизировать, то есть сценарий по ней написать. С одной стороны, да, у тебя уже есть как минимум сюжет, тебе не надо его выдумывать. Но в процессе все равно ты сталкиваешься с несоответствием того, что было в книге, с тем, что у тебя получается в сценарии. Это ни плюс, ни минус ни сценария, ни книги, просто это суть разные направления, литература и киноискусство. Литература дает вам возможность представить самому персонажа, события домыслить. Хорошее кино может заставить домыслить, но представлять я вам буду, не вы. Я вам уже покажу, к примеру, Хабенского, которому 40 лет, а не 27, как в романе. И это уже моя воля, мое насилие.

– По Первому каналу идет сейчас промо-ролик вашего нового фильма «Обитель» по Захару Прилепину, с пометкой «скоро»...
– В 2020 году он должен выйти. Может, и полнометражная версия. Действие все на Соловках происходит.
– Вы уже упоминали Соловки; что они значат в вашем восприятии?
– Это место силы, прежде всего. На меня оно сразу повлияло. Когда я впервые прилетел на Соловки, там произошло – это нельзя назвать чудом, но как-то это было симптоматично. Только я сошел с самолета на соловецкую землю – мы из Архангельска летели, надо было позвонить маме и жене, сообщить, что я жив-здоров, – у меня с телефона слетели все буквы, остались только цифры. Мистика... Еще есть такое название: русский Ватикан. Валаам называют русским Ватиканом, и Соловки. Ну так вот, в 2011 году мы впервые свозили туда Прилепина, и он после этого написал роман.
– То есть вы инициировали этот роман, получается?
– Ну да. Но сам его я написать не мог. Когда мне предложили тему Соловков, я сказал: это меня волнует очень, но у меня просто нет времени сидеть в архивах, а клюкву писать не хочется. Поэтому я позвонил Захару, он поначалу отказался, но через два дня перезвонил и сказал: да. Ну вот, слетали на Соловки, и через три года был готов роман. Валера Тодоровский выступил продюсером, а я это снял.
– Вы ведь преподаете в Школе кино и телевидения «Индустрия» Федора Бондарчука. Кому-либо из студентов удалось вас удивить?
– Я преподаю как приглашенный педагог. Иногда сижу на экзаменах вступительных, когда выдается свободное время. Мне интересно общаться с ребятами молодыми, там есть очень талантливые ребята. А удивить – может, на уровне короткометражек. Сказать, что после этого поменялся мой мир, я пока не могу.
– Вам самому какое кино ближе: европейское или голливудское?
– Скорее, не голливудское, а американское. Если Голливуд брать, то это Нолан, Пол Андерсон, Вуди Аллен. Это все-таки авторское кино. И Коппола со всеми его блокбастерами – тоже авторское кино. Вот этому нам надо учиться: совмещать зрелищность с непустым высказыванием, не с пустыми стрелялками и морализаторством. Кристофер Нолан, я считаю, сегодня лучший режиссер в мире. А так я очень Бунюэля люблю.
– А у меня, знаете ли, был один любимый режиссер, Джим Джармуш. До того как я посмотрела ваше кино. Теперь у меня два любимых режиссера, Александр Велединский и Джим Джармуш. Случилось это в 2013 году, когда в Тель-Авиве показали «Географа».
– Да, я тогда впервые в Израиль прилетел, из промозглого Парижа. Приехал из этого холода, а у вас море 23 градуса – теплейшая вода. И сразу купаться, хотя местные мне сказали, что в ноябре уже не купаются. Как же так, я в Одессе в 14 градусов купался! Вот сейчас тоже приезжаю в ноябре, может, привезу с собой жену и девчонок, хочу их в Иерусалим свозить. У меня самые мощные впечатления последних лет – не от искусства, а именно от географических мест: это Иерусалим, Столовая гора в Кейптауне и Ниагарский водопад со стороны Канады. Они меня прямо накрыли, навсегда. Оттого и фильм начинается с танца на этой горе, там Анфиса Черных танцует и парень темнокожий из местных.
– Скажите, а что для вас главное: пробудить мысли о большом и высоком у зрителя, рассмешить его, напугать его?..
– Я все время цитирую Гете в этом смысле: когда его спросили, для чего вы пишете, он ответил: чтобы смягчать нравы. То есть я, конечно, понимаю, что не изменю мир, и вообще никто из нас еще не изменил мир, наверное. Но в целом, когда собирается много такого – кино, литература, живопись, театр – это заставляет мир меняться. То есть где-то капелька моих картин останется, наверное.
P.S. Встреча израильских киноманов с Александром Велединским и показ его фильма «В Кейптаунском порту» состоится в субботу, 16 ноября в 21:00 в зале «Бейт а-Хаяль» в Тель-Авиве – в рамках киномарафона «MAVO CINEMA TALK 2019 – «ОКНО В ЕВРОПУ». Подробности и заказ билетов здесь. |


 – Думаю, что это, скорее, историческая коннотация. Ведь речь не о том фестивале, который открывает участвующим в нем фильмам дорогу в Европу. Это просто связано с историей города Выборга, где фестиваль проходит – города, который был финским, потом стал советским, российским. Ну и он ближе всех к Европе – в петровском даже понимании, ну и в нашем. Когда-то так назвали, теперь уже об этимологии и о смысле никто не думает, привыкли. Мы вообще мало о чем задумываемся, поскольку много необъяснимого вокруг. Вот, скажем, дети, рожденные сегодня, сразу садятся за компьютер – у меня две маленькие дочки, я это точно знаю. И два сына, один родился в советское время, в 1986-м, другой в 1992-м, уже в России. И у них абсолютно разный менталитет. У одного отношение к вещам одно, у другого другое. Я до сих пор разобраться не могу, отчего так происходит. Один четыре года застал советской власти, другой появился на свет в постсоветскую эпоху, и у них абсолютная какая-то разница. Я ее чувствую, но не могу сформулировать до конца, хотя стараюсь.
– Думаю, что это, скорее, историческая коннотация. Ведь речь не о том фестивале, который открывает участвующим в нем фильмам дорогу в Европу. Это просто связано с историей города Выборга, где фестиваль проходит – города, который был финским, потом стал советским, российским. Ну и он ближе всех к Европе – в петровском даже понимании, ну и в нашем. Когда-то так назвали, теперь уже об этимологии и о смысле никто не думает, привыкли. Мы вообще мало о чем задумываемся, поскольку много необъяснимого вокруг. Вот, скажем, дети, рожденные сегодня, сразу садятся за компьютер – у меня две маленькие дочки, я это точно знаю. И два сына, один родился в советское время, в 1986-м, другой в 1992-м, уже в России. И у них абсолютно разный менталитет. У одного отношение к вещам одно, у другого другое. Я до сих пор разобраться не могу, отчего так происходит. Один четыре года застал советской власти, другой появился на свет в постсоветскую эпоху, и у них абсолютная какая-то разница. Я ее чувствую, но не могу сформулировать до конца, хотя стараюсь.