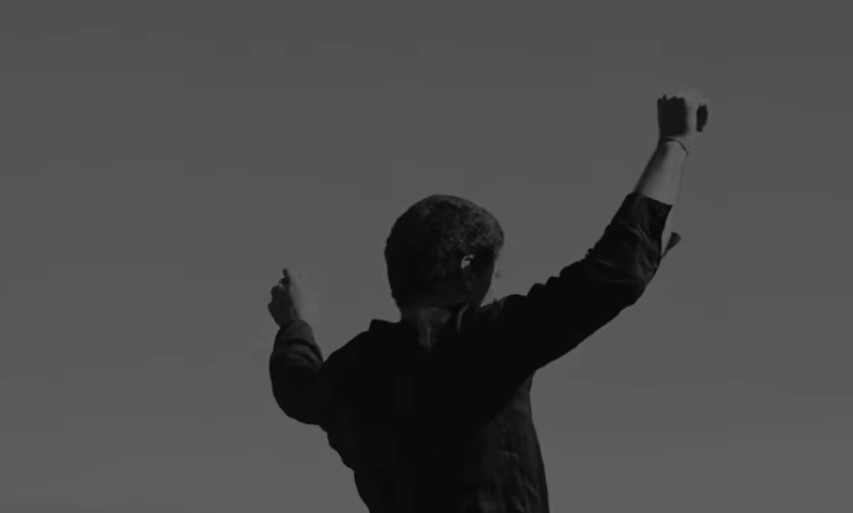«Паразиты» Пон Чжун Хо
Нечто столь же прекрасное, что и «Магазинные воришки», только с бо́льшим драйвом. Начинаешь совершенно иначе воспринимать философию бытия (не азиаты мы...) и улавливать запах бедности.
«Паразиты» – первый южнокорейский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Снял шедевр Пон Чжун Хо, в привычном для себя мультижанре, а именно в жанре «пончжунхо». Как всегда, цепляет.
«Синонимы» Надава Лапида
По словам режиссера, почти всё, что происходит в фильме с Йоавом, в том или ином виде случилось с ним самим, когда он после армии приехал в Париж. У Йоава (чей тезка, библейский Йоав был главнокомандующим царя Давида, взявшим Иерусалим) – посттравма и иллюзии, замешанные на мифе о герое Гекторе, защитнике Трои. Видно, таковым он себя и воображает, когда устраивается работать охранником в израильское посольство и когда учит французский в OFII. Но ведь научиться говорить на языке великих философов еще не значит расстаться с собственной идентичностью и стать французом. Сначала надо взять другую крепость – самого себя.
«Frantz» Франсуа Озона
В этой картине сходятся черное и белое (хотя невзначай, того и гляди, вдруг проглянет цветное исподнее), витальное и мортальное, французское и немецкое. Персонажи переходят с одного языка на другой и обратно, зрят природу в цвете от избытка чувств, мерещат невесть откуда воскресших юношей, играющих на скрипке, и вообще чувствуют себя неуютно на этом черно-белом свете. Французы ненавидят немцев, а немцы французов, ибо действие происходит аккурат после Первой мировой. Разрушенный войной комфортный мир сместил систему тоник и доминант, и Франсуа Озон поочередно запускает в наши (д)уши распеваемую народным хором «Марсельезу» и исполняемую оркестром Парижской оперы «Шехерезаду» Римского-Корсакова. На территории мучительного диссонанса, сдобренного не находящим разрешения тристан-аккордом, и обретаются герои фильма. Оттого распутать немецко-французскую головоломку зрителю удается далеко не сразу.
«Патерсон» Джима Джармуша
В этом фильме всё двоится: стихотворец Патерсон и городишко Патерсон, bus driver и Адам Драйвер, волоокая иранка Лаура и одноименная муза Петрарки, японец Ясудзиро Одзу и японец Масатоси Нагасэ, черно-белые интерьеры и черно-белые капкейки, близнецы и поэты. Да, здесь все немножко поэты, и в этом как раз нет ничего странного. Потому что Джармуш и сам поэт, и фильмы свои он складывает как стихи. Звуковые картины, настоянные на медитации, на многочисленных повторах, на вроде бы рутине, а в действительности – на нарочитой простоте мироздания. Ибо любой поэт, даже если он не поэт, может начать всё с чистого листа.
«Ужасных родителей» Жана Кокто
Необычный для нашего пейзажа режиссер Гади Ролл поставил в Беэр-Шевском театре спектакль о французах, которые говорят быстро, а живут смутно. Проблемы – вечные, старые, как мир: муж охладел к жене, давно и безвозвратно, а она не намерена делить сына с какой-то женщиной, и оттого кончает с собой. Жан Кокто, драматург, поэт, эстет, экспериментатор, был знаком с похожей ситуацией: мать его возлюбленного Жана Маре была столь же эгоистичной.
Сценограф Кинерет Киш нашла правильный и стильный образ спектакля – что-то среднее между офисом, складом, гостиницей, вокзалом; место нигде. Амир Криеф и Шири Голан, уникальный актерский дуэт, уже много раз создававший настроение причастности и глубины в разном материале, достойно отыгрывает смятенный трагифарс. Жан Кокто – в Беэр-Шеве. Новые сказки для взрослых
Хоть и пичкали нас в детстве недетскими и отнюдь не невинными сказками Шарля Перро и братьев Гримм, знать не знали и ведать не ведали мы, кто все это сотворил. А началось все со «Сказки сказок» - пентамерона неаполитанского поэта, писателя, солдата и госчиновника Джамбаттисты Базиле. Именно в этом сборнике впервые появились прототипы будущих хрестоматийных сказочных героев, и именно по этим сюжетам-самородкам снял свои «Страшные сказки» итальянский режиссер Маттео Гарроне. Правда, под сюжетной подкладкой ощутимо просматриваются Юнг с Грофом и Фрезером, зато цепляет. Из актеров, коих Гарроне удалось подбить на эту авантюру, отметим Сальму Хайек в роли бездетной королевы и Венсана Касселя в роли короля, влюбившегося в голос старушки-затворницы. Из страннейших типов, чьи портреты украсили бы любую галерею гротеска, - короля-самодура (Тоби Джонс), который вырастил блоху до размеров кабана под кроватью в собственной спальне. Отметим также невероятно красивые с пластической точки зрения кадры: оператором выступил поляк Питер Сушицки, явно черпавший вдохновение в иллюстрациях старинных сказок Эдмунда Дюлака и Гюстава Доре.
Kutiman Mix the City
Kutiman Mix the City – обалденный интерактивный проект, выросший из звуков города-без-перерыва. Основан он на понимании того, что у каждого города есть свой собственный звук. Израильский музыкант планетарного масштаба Офир Кутель, выступающий под псевдонимом Kutiman, король ютьюбовой толпы, предоставляет всем шанс создать собственный ремикс из звуков Тель-Авива – на вашей собственной клавиатуре. Смикшировать вибрации города-без-перерыва на интерактивной видеоплатформе можно простым нажатием пальца (главное, конечно, попасть в такт). Приступайте.
Видеоархив событий конкурса Рубинштейна
Все события XIV Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна - в нашем видеоархиве! Запись выступлений участников в реситалях, запись выступлений финалистов с камерными составами и с двумя оркестрами - здесь. Альбом песен Ханоха Левина
Люди на редкость талантливые и среди коллег по шоу-бизнесу явно выделяющиеся - Шломи Шабан и Каролина - объединились в тандем. И записали альбом песен на стихи Ханоха Левина « На побегушках у жизни». Любопытно, что язвительные левиновские тексты вдруг зазвучали нежно и трогательно. Грустинка с прищуром, впрочем, сохранилась.
«Год, прожитый по‑библейски» Эя Джея Джейкобса
...где автор на один год изменил свою жизнь: прожил его согласно всем законам Книги книг.
«Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов» Ёко Тавада
Жизнь – это долгое путешествие в вагоне на нижней полке.
Скрюченному человеку трудно держать равновесие. Но это тебя уже не беспокоит. Нельзя сказать, что тебе не нравится застывать в какой-нибудь позе. Но то, что происходит потом… Вот Кузнец выковал твою позу. Теперь ты должна сохранять равновесие в этом неустойчивом положении, а он всматривается в тебя, словно посетитель музея в греческую скульптуру. Потом он начинает исправлять положение твоих ног. Это похоже на внезапный пинок. Он пристает со своими замечаниями, а твое тело уже привыкло к своему прежнему положению. Есть такие части тела, которые вскипают от возмущения, если к ним грубо прикоснуться. «Комедию д'искусства» Кристофера Мура
На сей раз муза-матерщинница Кристофера Мура подсела на импрессионистскую тему. В июле 1890 года Винсент Ван Гог отправился в кукурузное поле и выстрелил себе в сердце. Вот тебе и joie de vivre. А все потому, что незадолго до этого стал до жути бояться одного из оттенков синего. Дабы установить причины сказанного, пекарь-художник Люсьен Леззард и бонвиван Тулуз-Лотрек совершают одиссею по богемному миру Парижа на излете XIX столетия.
В романе «Sacré Bleu. Комедия д'искусства» привычное шутовство автора вкупе с псевдодокументальностью изящно растворяется в Священной Сини, подгоняемое собственным муровским напутствием: «Я знаю, что вы сейчас думаете: «Ну, спасибо тебе огромное, Крис, теперь ты всем испортил еще и живопись». «Пфитц» Эндрю Крами
Шотландец Эндрю Крами начертал на бумаге план столицы воображариума, величайшего града просвещения, лихо доказав, что написанное существует даже при отсутствии реального автора. Ибо «язык есть изощреннейшая из иллюзий, разговор - самая обманчивая форма поведения… а сами мы - измышления, мимолетная мысль в некоем мозгу, жест, вряд ли достойный толкования». Получилась сюрреалистическая притча-лабиринт о несуществующих городах - точнее, существующих лишь на бумаге; об их несуществующих жителях с несуществующими мыслями; о несуществующем безумном писателе с псевдобиографией и его существующих романах; о несуществующих графах, слугах и видимости общения; о великом князе, всё это придумавшем (его, естественно, тоже не существует). Рекомендуется любителям медитативного погружения в небыть.
«Тинтина и тайну литературы» Тома Маккарти
Что такое литературный вымысел и как функционирует сегодня искусство, окруженное прочной медийной сетью? Сей непростой предмет исследует эссе британского писателя-интеллектуала о неунывающем репортере с хохолком. Появился он, если помните, аж в 1929-м - стараниями бельгийского художника Эрже. Неповторимый флёр достоверности вокруг вымысла сделал цикл комиксов «Приключения Тинтина» культовым, а его герой получил прописку в новейшей истории. Так, значит, это литература? Вроде бы да, но ничего нельзя знать доподлинно.
«Неполную, но окончательную историю...» Стивена Фрая
«Неполная, но окончательная история классической музыки» записного британского комика - чтиво, побуждающее мгновенно испустить ноту: совершенную или несовершенную, голосом или на клавишах/струнах - не суть. А затем удариться в запой - книжный запой, вестимо, и испить эту чашу до дна. Перейти вместе с автором от нотного стана к женскому, познать, отчего «Мрачный Соломон сиротливо растит флоксы», а правая рука Рахманинова напоминает динозавра, и прочая. Всё это крайне занятно, так что... почему бы и нет?
Тайские роти
Истинно райское лакомство - тайские блинчики из слоеного теста с начинкой из банана. Обжаривается блинчик с обеих сторон до золотистости и помещается в теплые кокосовые сливки или в заварной крем (можно использовать крем из сгущенного молока). Подается с пылу, с жару, украшенный сверху ледяным кокосовым сорбе - да подается не абы где, а в сиамском ресторане «Тигровая лилия» (Tiger Lilly) в тель-авивской Сароне. Шомлойскую галушку
Легендарная шомлойская галушка (somlói galuska) - винтажный ромовый десерт, придуманный, по легенде, простым официантом. Отведать ее можно практически в любом ресторане Будапешта - если повезет. Вопреки обманчиво простому названию, сей кондитерский изыск являет собой нечто крайне сложносочиненное: бисквит темный, бисквит светлый, сливки взбитые, цедра лимонная, цедра апельсиновая, крем заварной (патисьер с ванилью, ммм), шоколад, ягоды, орехи, ром... Что ни слой - то скрытый смысл. Прощай, талия.
Бисквитную пасту Lotus с карамелью
Классическое бельгийское лакомство из невероятного печенья - эталона всех печений в мире. Деликатес со вкусом карамели нужно есть медленно, миниатюрной ложечкой - ибо паста так и тает во рту. Остановиться попросту невозможно. Невзирая на калории.
Шоколад с васаби
Изысканный тандем - горький шоколад и зеленая японская приправа - кому-то может показаться сочетанием несочетаемого. Однако распробовавшие это лакомство считают иначе. Вердикт: правильный десерт для тех, кто любит погорячее. А также для тех, кто недавно перечитывал книгу Джоанн Харрис и пересматривал фильм Жерара Кравчика.
Торт «Саркози»
Как и Париж, десерт имени французского экс-президента явно стоит мессы. Оттого и подают его в ресторане Messa на богемной тель-авивской улице ха-Арбаа. Горько-шоколадное безумие (шоколад, заметим, нескольких сортов - и все отменные) заставляет поверить в то, что Саркози вернется. Не иначе.
|
 |
Пааво Ярви: «Малер не верил в воскресение»
| 08.09.2025Лина Гончарская |
Один из лучших дирижеров современности о паузах и тишине, о музыкальном психоанализе и о том, что во время концерта надо страдать и умирать

Photo by Kaupo Kikkas
Наша беседа с Пааво Ярви на международном фестивале Джордже Энеску предшествовала исполнению «Resurrection» – Второй симфонии его любимого композитора Малера. Эта симфония всегда вызывает в моей памяти высказывание, ошибочно приписываемое малеровой жене Альме, но на самом деле принадлежащее самому Густлю: «Я трижды бездомный: родился в Богемии, входившей в состав Австро-Венгрии, был австрийцем среди немцев и евреем для всего остального мира. Везде незваный гость, которому никто не рад».
Оркестр Тонхалле из Цюриха играл Вторую симфонию («Воскресение») Густава Малера вместе с Филармоническим хором Джордже Энеску и солистками Эльзой Бенуа (сопрано) и Анной Люсией Рихтер (меццо-сопрано). Кто-то сказал, что с этим оркестром Пааво Ярви исполняет ее впервые. Так или иначе, ведомый им оркестр медленно распаковывал космос – с малеровской музыкальной тканью Ярви обращался в высшей степени бережно, кроя из нее историю раздумчивую, неспешную, повышающую голос лишь в случае крайней необходимости. Его «Воскресение» – тщательно отстроенное архитектурное здание, где каждый штрих подчёркнут, но без попытки переиграть автора. Он идёт по партитуре с той аккуратностью, с какой реставратор прикасается к древней фреске: ни одного лишнего мазка, ни одной произвольной тени. Оркестр Тонхалле, привычный к его ясной дисциплине, отвечает чистыми линиями и прозрачными слоями звука. В первой части мне показалось, что Ярви будто задерживает дыхание, позволяя каждому мотиву обрести собственную тяжесть. В Andante лёгкие штрихи струнных складывались в безмятежный пейзаж, где всё уже утратило остроту, но сохранило ясность очертаний – зыбь памяти, очищенной временем. В Scherzo малеровская ирония звучит не как кривое зеркало, а как тщательно выгравированный орнамент: каждая интонация духовых выточена, каждая пауза отмерена. Альтовый Urlicht был подан камерно, почти доверительно; простота тут оборачивается самой убедительной формой возвышенного, самой убедительной формой веры, лишённой внешних эффектов. Да и в финале Ярви не театрализует жесты: короткие, резкие линии рук, едва заметные движения запястья, поднятые и опущенные плечи – словно дыхательные мышцы самой музыки. В решающие мгновения именно это внутреннее напряжение становится видимым, и бесплотный хор брезжит откуда-то из тишины, как свет, наполняющий храм в утренний час. Из этой строгости маэстро Ярви рождается особая поэзия: resurrection как ясность, как дыхание, как неизбежное воскресение.

Photo by Andrada Pavel
Л.Г. Вот шла сейчас на нашу встречу и думала о том, отчего тишина звучит порой громче любого fortissimo.
П.Я. Иногда piano и должно звучать громче, потому что это шокирует. В обычной жизни мы произносим много пустых слов, но в музыке паузы так же важны, как ноты. Особенно если ты играешь, к примеру, музыку Арво Пярта – тогда паузы и есть самое важное.
Л.Г. Арво Пярт, Гия Канчели – авторы по-настоящему «тихой» музыки, о них неизбежно вспоминается в контексте того, о чем мы с вами говорим...
П.Я. Мы как раз сейчас с Эстонским фестивальным оркестром записали альбом с музыкой Пярта к его 90-летию, он называется «Credo». Знаете, Арво был другом моего отца, я знаком с ним с самого детства – тогда он казался мне хипстером, носил джинсы и бейсболку... А в 1968 году мой отец Неэме Ярви дирижировал исполнением его «Credo», и тут мы опять приходим к тишине. Не оттого даже, что в этом сочинении хор шепчет; а оттого, что после создания «Credo» у Пярта начался период творческого молчания. Интересно, что после каждого такого периода затишья он обретал новый дар речи и начинал говорить на ином языке. Так вот, в этот альбом включена пьеса, которую Арво написал для меня – она называется «Силуэт».
Л.Г. Да, я помню, как сам Арво Пярт упоминал об этом – о том, что импульсом к написанию этого произведения стал «мимолетный отблеск мысли на первоклассную интерпретацию дирижера Пааво Ярви». И что получился у него дивный вальс, который вскружил слушателям голову как ветер, овевающий острый конец шпиля Эйфелевой башни...
П.Я. Так оно и было.
Л.Г. Ну а теперь, поскольку я, как и вы, помешана на Малере, чью Вторую симфонию вы исполните на фестивале Энеску с Tonhalle-Orchester Zürich (у меня, к слову, даже кот на нем помешан, он его называет Мяулер) – может, побеседуем о нем?
П.Я. Малер для меня – самый великий. Потому что он всегда говорит о human condition. О том, что чувствует сам. Ни в чьей музыке так не ощущается человеческое нутро, внутренний мир.

Photo by Kaupo Kikkas
Л.Г. Вы учились у Бернстайна, а именно он исполнял «Воскресение» в ноябре 1948 года в ознаменование первого сезона Израильского филармонического оркестра. Он же дирижировал малеровской Второй в ноябре 1963-го, дабы выразить скорбь по поводу убийства Кеннеди, под его же управлением звучала она на горе Скопус в Иерусалиме после Шестидневной войны в 1967-м (в переводе на иврит, между прочим). Бернстайн действительно пытался превратить Малера в символ еврейского возрождения, уподобив его блудному сыну, который однажды сбился с пути. Схожи ли ваши взгляды в этом вопросе?
П.Я. Это очень трудная и интересная тема, ее невозможно осветить в двух словах. Сама тема воскресения глубока невероятно – ибо в музыке слышно, что Малер в resurrection не верил. Он всегда оставался евреем и думал, как еврей. Что же касается этой симфонии, он открыл себя в ней, нашел себя в ней. Он стал Густавом Малером в этой симфонии.
У нее очень нетрадиционная форма, поэтому и выстраивать ее нужно иначе, нетрадиционно. А участие солистов и хора превращает ее в ораторию, в оперу, в общем, во всё вместе.
Я видел несколько раз, как Бернстайн дирижировал Второй симфонией, и как эмоционально воспринимала ее публика. Я видел, как в одном из залов Нью-Йорка понуро сидели мужчины, чьи жены насильно притащили их на концерт после рабочего дня – им хотелось оказаться где угодно, только не здесь... но в финале все они плакали. Так это было проникновенно. В этой симфонии есть всё. Вся жизнь. И здесь отчетливо чувствуется, как Малер, ставший католиком, сменивший религию, не верит в идею воскресения.
Л.Г. Мне всегда было интересно сопоставлять его с Шёнбергом, который тоже перешел в христианство, но потом вернулся в лоно иудаизма. А Малер не вернулся.
П.Я. Думаю, он просто не дожил до этого момента. Если бы успел, то вернулся бы. Кроме того, внутри себя он явно знал, что всё это ненастоящее. Вот Стравинский никогда не верил в Б-га, а перед смертью на всякий случай решил поверить – чтобы страховка была (смеется).
Л.Г. А вы верите?
П.Я. И да, и нет. На эту тему можно тоже говорить очень долго, особенно когда вокруг столько катастроф, и сколько людей гибнет из-за религии... Поэтому я не религиозен.
Л.Г. А в высшие силы верите?
П.Я. Высшие силы – у нас внутри.

Photo by Kaupo Kikkas
Л.Г. Почему Малер так часто умирает в своих произведениях, и душа его отлетает, и уносится в небеса, в ад ли, в рай ли?..
П.Я. Потому что он всегда думает про глубинные процессы – что было, что будет, куда мы идем и почему. Это психоанализ чистой воды, только в музыке. Он ведь никогда не смотрит издалека – он всегда говорит про себя.
Тут-то самое время продолжить о том, что я услышала после, уже на концерте. Если смотреть на интерпретацию Ярви сквозь фрейдовскую оптику, то Вторая симфония превращается в бесконечный диалог бессознательного с самим собой. Его сдержанная пластика – поднятые плечи, экономные жесты, почти аскетичное дирижирование – напоминают фигуру аналитика, который не навязывает пациенту ответы, а лишь направляет поток ассоциаций. В симфонии это проявляется как постоянное вытеснение и возвращение: затаённые медные фанфары всплывают из тьмы, словно вытесненные желания; танцевальные ритмы Scherzo прорываются сквозь строгий порядок, как симптомы сновидений; а финальный хор звучит как акт символического освобождения, катарсиса после долгой внутренней терапии. Можно сказать, что Ярви выстраивает Малера как психоаналитическую сессию: первая часть – это травма, вторая – повторение, третья – игра бессознательного, четвёртая – голос внутреннего «Я», а пятая – грандиозное возвращение вытесненного в виде «воскресения». Не чудо религиозного порядка, а психическая необходимость: то, что должно было выйти на поверхность, выходит в сиянии звука.
Л.Г. Умираете ли вы всякий раз вместе с ним?
П.Я. Да. Надо страдать, и умирать, и переживать все другие эмоции. Разумеется, это очень трудно делать десять раз подряд. Малера можно исполнять максимум два вечера подряд, а потом делать перерыв. Просто эмоционально трудно найти такие же силы. У тебя уже ничего не остается, ты выжат до конца.
Л.Г. Обычно после концерта вы испытываете опустошенность? Или, наоборот, наполненность?
П.Я. Это очень зависит от программы. После Девятой симфонии Малера чувствую, что уже ни на что не годен. А после Первой и Второй, да и Третьей – что всё еще возможно. После симфоний Шумана, если отвлечься от Малера, я чувствую себя возвышенно.
Л.Г. И все-таки в музыке Малера, несмотря на всю ее исповедальность, есть некая театральность...
- Безусловно, особенно в Первой симфонии. Он тогда слушал Рихарда Штрауса. Но если Штраус – это оперный иллюстратор, то Малер никогда не был иллюстратором. Его театральность очень умелая, но этика у него другая. И мышление другое.

Photo by Andrada Pavel
Л.Г. Вы руководите сразу несколькими оркестрами – по-моему, это безумная нагрузка, как вы это выдерживаете?
П.Я. Они все очень разные. И проекты очень разные. У меня так всё запланировано, что ничего не пересекается. К примеру, я делаю малеровский цикл с оркестром Тонхалле, а с The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – Шуберта и Гайдна... Для меня важно, чтобы обе половины этого музыкального мира как-то совмещались. С Эстонским фестивальным оркестром мы делаем новую эстонскую музыку и вообще новую музыку, чего я не делаю с другими оркестрами. Так что всё очень органично.
Л.Г. И еще хотела спросить о вашей дирижерской академии и о той чудесной польской девушке Юлии Куржидлак, которая победила на последнем вашем конкурсе, став вашей личной фавориткой – и фавориткой публики.
П.Я. А теперь она – мой ассистент. С самого начала было ясно, что она безусловный победитель. Что же касается моего фестиваля в Пярну, то самое главное в нем – мастер-классы для дирижеров. Для меня очень важно знать, что дирижерская профессия сохранится. Сегодня ведь мало хороших дирижеров – их надо воспитывать, учить. А иные из тех, кто учит сегодня дирижированию, сами не умеют этого делать. Не знают основных принципов, элементарных вещей. И передают эту чушь молодым. У меня душа болит наблюдать за тем, что происходит с молодыми дирижерами. И педагогов настоящих мало. Они видят только внешнее, какие-то визуальные проявления, что в нашей профессии наименее важно; видят только вершину айсберга. Поэтому я провожу мастер-классы – чтобы находить тех, с кем имеет смысл работать. У нас в Пярну каждый раз учится не менее 300 человек, в последний раз был по-настоящему талантливый израильский мальчик.

Photo by Akvilė Šileikaitė
Л.Г. Скажите по секрету: во Второй симфонии есть дополнительные валторны и трубы, которые должны звучать издалека. Каждый дирижер пристраивает их в разные концы зала, кто-то даже в ложи или на балконы... Куда вы их прячете?
П.Я. Это зависит от зала, от акустики, от техники. В идеале их хотелось бы поместить очень далеко, но если нет монитора, который был бы идеально синхронизирован с реальным временем (а часто изображение дирижера на мониторе может запаздывать на доли секунды), то приходится как-то выкручиваться. Часто мы зависим от самых прозаичных вещей.
(Примечание: в зале Палатулуй на фестивале Энеску валторны и трубы звучали откуда-то сзади.)
Фотографии предоставлены Tonhalle-Orchester Zürich и George Enescu International Festival |





|
 |
Элишева Несис.
«Стервозное танго»

|