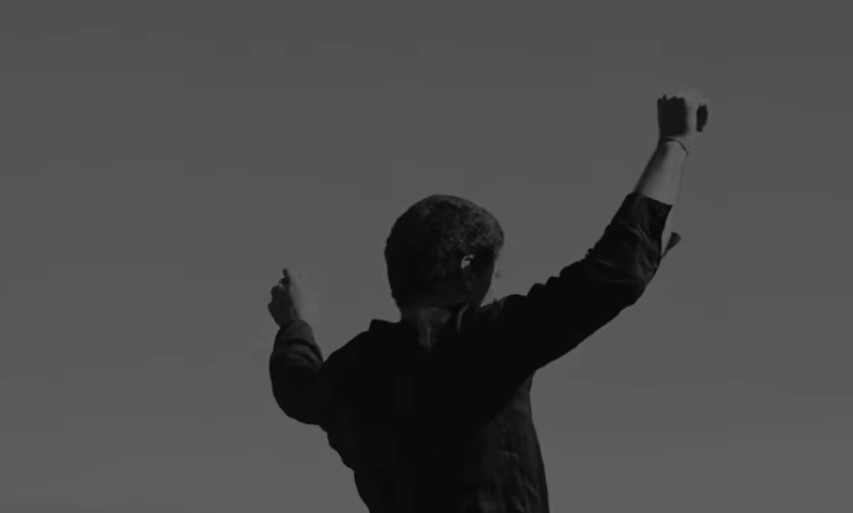«Паразиты» Пон Чжун Хо
Нечто столь же прекрасное, что и «Магазинные воришки», только с бо́льшим драйвом. Начинаешь совершенно иначе воспринимать философию бытия (не азиаты мы...) и улавливать запах бедности.
«Паразиты» – первый южнокорейский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Снял шедевр Пон Чжун Хо, в привычном для себя мультижанре, а именно в жанре «пончжунхо». Как всегда, цепляет.
«Синонимы» Надава Лапида
По словам режиссера, почти всё, что происходит в фильме с Йоавом, в том или ином виде случилось с ним самим, когда он после армии приехал в Париж. У Йоава (чей тезка, библейский Йоав был главнокомандующим царя Давида, взявшим Иерусалим) – посттравма и иллюзии, замешанные на мифе о герое Гекторе, защитнике Трои. Видно, таковым он себя и воображает, когда устраивается работать охранником в израильское посольство и когда учит французский в OFII. Но ведь научиться говорить на языке великих философов еще не значит расстаться с собственной идентичностью и стать французом. Сначала надо взять другую крепость – самого себя.
«Frantz» Франсуа Озона
В этой картине сходятся черное и белое (хотя невзначай, того и гляди, вдруг проглянет цветное исподнее), витальное и мортальное, французское и немецкое. Персонажи переходят с одного языка на другой и обратно, зрят природу в цвете от избытка чувств, мерещат невесть откуда воскресших юношей, играющих на скрипке, и вообще чувствуют себя неуютно на этом черно-белом свете. Французы ненавидят немцев, а немцы французов, ибо действие происходит аккурат после Первой мировой. Разрушенный войной комфортный мир сместил систему тоник и доминант, и Франсуа Озон поочередно запускает в наши (д)уши распеваемую народным хором «Марсельезу» и исполняемую оркестром Парижской оперы «Шехерезаду» Римского-Корсакова. На территории мучительного диссонанса, сдобренного не находящим разрешения тристан-аккордом, и обретаются герои фильма. Оттого распутать немецко-французскую головоломку зрителю удается далеко не сразу.
«Патерсон» Джима Джармуша
В этом фильме всё двоится: стихотворец Патерсон и городишко Патерсон, bus driver и Адам Драйвер, волоокая иранка Лаура и одноименная муза Петрарки, японец Ясудзиро Одзу и японец Масатоси Нагасэ, черно-белые интерьеры и черно-белые капкейки, близнецы и поэты. Да, здесь все немножко поэты, и в этом как раз нет ничего странного. Потому что Джармуш и сам поэт, и фильмы свои он складывает как стихи. Звуковые картины, настоянные на медитации, на многочисленных повторах, на вроде бы рутине, а в действительности – на нарочитой простоте мироздания. Ибо любой поэт, даже если он не поэт, может начать всё с чистого листа.
«Ужасных родителей» Жана Кокто
Необычный для нашего пейзажа режиссер Гади Ролл поставил в Беэр-Шевском театре спектакль о французах, которые говорят быстро, а живут смутно. Проблемы – вечные, старые, как мир: муж охладел к жене, давно и безвозвратно, а она не намерена делить сына с какой-то женщиной, и оттого кончает с собой. Жан Кокто, драматург, поэт, эстет, экспериментатор, был знаком с похожей ситуацией: мать его возлюбленного Жана Маре была столь же эгоистичной.
Сценограф Кинерет Киш нашла правильный и стильный образ спектакля – что-то среднее между офисом, складом, гостиницей, вокзалом; место нигде. Амир Криеф и Шири Голан, уникальный актерский дуэт, уже много раз создававший настроение причастности и глубины в разном материале, достойно отыгрывает смятенный трагифарс. Жан Кокто – в Беэр-Шеве. Новые сказки для взрослых
Хоть и пичкали нас в детстве недетскими и отнюдь не невинными сказками Шарля Перро и братьев Гримм, знать не знали и ведать не ведали мы, кто все это сотворил. А началось все со «Сказки сказок» - пентамерона неаполитанского поэта, писателя, солдата и госчиновника Джамбаттисты Базиле. Именно в этом сборнике впервые появились прототипы будущих хрестоматийных сказочных героев, и именно по этим сюжетам-самородкам снял свои «Страшные сказки» итальянский режиссер Маттео Гарроне. Правда, под сюжетной подкладкой ощутимо просматриваются Юнг с Грофом и Фрезером, зато цепляет. Из актеров, коих Гарроне удалось подбить на эту авантюру, отметим Сальму Хайек в роли бездетной королевы и Венсана Касселя в роли короля, влюбившегося в голос старушки-затворницы. Из страннейших типов, чьи портреты украсили бы любую галерею гротеска, - короля-самодура (Тоби Джонс), который вырастил блоху до размеров кабана под кроватью в собственной спальне. Отметим также невероятно красивые с пластической точки зрения кадры: оператором выступил поляк Питер Сушицки, явно черпавший вдохновение в иллюстрациях старинных сказок Эдмунда Дюлака и Гюстава Доре.
Kutiman Mix the City
Kutiman Mix the City – обалденный интерактивный проект, выросший из звуков города-без-перерыва. Основан он на понимании того, что у каждого города есть свой собственный звук. Израильский музыкант планетарного масштаба Офир Кутель, выступающий под псевдонимом Kutiman, король ютьюбовой толпы, предоставляет всем шанс создать собственный ремикс из звуков Тель-Авива – на вашей собственной клавиатуре. Смикшировать вибрации города-без-перерыва на интерактивной видеоплатформе можно простым нажатием пальца (главное, конечно, попасть в такт). Приступайте.
Видеоархив событий конкурса Рубинштейна
Все события XIV Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна - в нашем видеоархиве! Запись выступлений участников в реситалях, запись выступлений финалистов с камерными составами и с двумя оркестрами - здесь. Альбом песен Ханоха Левина
Люди на редкость талантливые и среди коллег по шоу-бизнесу явно выделяющиеся - Шломи Шабан и Каролина - объединились в тандем. И записали альбом песен на стихи Ханоха Левина « На побегушках у жизни». Любопытно, что язвительные левиновские тексты вдруг зазвучали нежно и трогательно. Грустинка с прищуром, впрочем, сохранилась.
«Год, прожитый по‑библейски» Эя Джея Джейкобса
...где автор на один год изменил свою жизнь: прожил его согласно всем законам Книги книг.
«Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов» Ёко Тавада
Жизнь – это долгое путешествие в вагоне на нижней полке.
Скрюченному человеку трудно держать равновесие. Но это тебя уже не беспокоит. Нельзя сказать, что тебе не нравится застывать в какой-нибудь позе. Но то, что происходит потом… Вот Кузнец выковал твою позу. Теперь ты должна сохранять равновесие в этом неустойчивом положении, а он всматривается в тебя, словно посетитель музея в греческую скульптуру. Потом он начинает исправлять положение твоих ног. Это похоже на внезапный пинок. Он пристает со своими замечаниями, а твое тело уже привыкло к своему прежнему положению. Есть такие части тела, которые вскипают от возмущения, если к ним грубо прикоснуться. «Комедию д'искусства» Кристофера Мура
На сей раз муза-матерщинница Кристофера Мура подсела на импрессионистскую тему. В июле 1890 года Винсент Ван Гог отправился в кукурузное поле и выстрелил себе в сердце. Вот тебе и joie de vivre. А все потому, что незадолго до этого стал до жути бояться одного из оттенков синего. Дабы установить причины сказанного, пекарь-художник Люсьен Леззард и бонвиван Тулуз-Лотрек совершают одиссею по богемному миру Парижа на излете XIX столетия.
В романе «Sacré Bleu. Комедия д'искусства» привычное шутовство автора вкупе с псевдодокументальностью изящно растворяется в Священной Сини, подгоняемое собственным муровским напутствием: «Я знаю, что вы сейчас думаете: «Ну, спасибо тебе огромное, Крис, теперь ты всем испортил еще и живопись». «Пфитц» Эндрю Крами
Шотландец Эндрю Крами начертал на бумаге план столицы воображариума, величайшего града просвещения, лихо доказав, что написанное существует даже при отсутствии реального автора. Ибо «язык есть изощреннейшая из иллюзий, разговор - самая обманчивая форма поведения… а сами мы - измышления, мимолетная мысль в некоем мозгу, жест, вряд ли достойный толкования». Получилась сюрреалистическая притча-лабиринт о несуществующих городах - точнее, существующих лишь на бумаге; об их несуществующих жителях с несуществующими мыслями; о несуществующем безумном писателе с псевдобиографией и его существующих романах; о несуществующих графах, слугах и видимости общения; о великом князе, всё это придумавшем (его, естественно, тоже не существует). Рекомендуется любителям медитативного погружения в небыть.
«Тинтина и тайну литературы» Тома Маккарти
Что такое литературный вымысел и как функционирует сегодня искусство, окруженное прочной медийной сетью? Сей непростой предмет исследует эссе британского писателя-интеллектуала о неунывающем репортере с хохолком. Появился он, если помните, аж в 1929-м - стараниями бельгийского художника Эрже. Неповторимый флёр достоверности вокруг вымысла сделал цикл комиксов «Приключения Тинтина» культовым, а его герой получил прописку в новейшей истории. Так, значит, это литература? Вроде бы да, но ничего нельзя знать доподлинно.
«Неполную, но окончательную историю...» Стивена Фрая
«Неполная, но окончательная история классической музыки» записного британского комика - чтиво, побуждающее мгновенно испустить ноту: совершенную или несовершенную, голосом или на клавишах/струнах - не суть. А затем удариться в запой - книжный запой, вестимо, и испить эту чашу до дна. Перейти вместе с автором от нотного стана к женскому, познать, отчего «Мрачный Соломон сиротливо растит флоксы», а правая рука Рахманинова напоминает динозавра, и прочая. Всё это крайне занятно, так что... почему бы и нет?
Тайские роти
Истинно райское лакомство - тайские блинчики из слоеного теста с начинкой из банана. Обжаривается блинчик с обеих сторон до золотистости и помещается в теплые кокосовые сливки или в заварной крем (можно использовать крем из сгущенного молока). Подается с пылу, с жару, украшенный сверху ледяным кокосовым сорбе - да подается не абы где, а в сиамском ресторане «Тигровая лилия» (Tiger Lilly) в тель-авивской Сароне. Шомлойскую галушку
Легендарная шомлойская галушка (somlói galuska) - винтажный ромовый десерт, придуманный, по легенде, простым официантом. Отведать ее можно практически в любом ресторане Будапешта - если повезет. Вопреки обманчиво простому названию, сей кондитерский изыск являет собой нечто крайне сложносочиненное: бисквит темный, бисквит светлый, сливки взбитые, цедра лимонная, цедра апельсиновая, крем заварной (патисьер с ванилью, ммм), шоколад, ягоды, орехи, ром... Что ни слой - то скрытый смысл. Прощай, талия.
Бисквитную пасту Lotus с карамелью
Классическое бельгийское лакомство из невероятного печенья - эталона всех печений в мире. Деликатес со вкусом карамели нужно есть медленно, миниатюрной ложечкой - ибо паста так и тает во рту. Остановиться попросту невозможно. Невзирая на калории.
Шоколад с васаби
Изысканный тандем - горький шоколад и зеленая японская приправа - кому-то может показаться сочетанием несочетаемого. Однако распробовавшие это лакомство считают иначе. Вердикт: правильный десерт для тех, кто любит погорячее. А также для тех, кто недавно перечитывал книгу Джоанн Харрис и пересматривал фильм Жерара Кравчика.
Торт «Саркози»
Как и Париж, десерт имени французского экс-президента явно стоит мессы. Оттого и подают его в ресторане Messa на богемной тель-авивской улице ха-Арбаа. Горько-шоколадное безумие (шоколад, заметим, нескольких сортов - и все отменные) заставляет поверить в то, что Саркози вернется. Не иначе.
|
 |
Женщины в храме музыки
| 06.10.2025Лина Гончарская |
Если бы историю музыки писали розовыми чернилами с легким запахом миндаля, страницы партитур шуршали бы кружевами, и библиотекари в панике переставляли бы тома с полки «Симфонии» на полку «Домоводство». А потом еще на всякий случай прятали бы их за кулинарными книгами, между «Как подать форшмак с оркестровкой» и «Секреты гармоничного варенья». Хотя любой уважающий себя музыкант и пишущий о музыке ни за что не согласятся с делением музыки на «мужскую» и «женскую», да и вообще в нашем теперешнем мире гендер – понятие универсальное.
И тем не менее, тем не менее – музикдиректор дивного (могу повторить это сто раз, и еще раз по сто) оркестра «Израильская Камерата. Иерусалим» Авнер Бирон назвал концертную программу октября «Женщины в храме музыки». Разумеется, не без оглядки на солистку–альтистку – очаровательную без преувеличения Лейки Глик. Но прежде всего он имел в виду трех других героинь, композиторов из рода дам-с – Луизу Фарранк, Элис Мэри Смит и Аялу Ашеров, чьи партитуры много лет бродили по упомянутым выше стеллажам в ожидании дирижёрского жеста. Ну, не совсем так: Аяла все-таки наша современница, к тому же молодая, а вот первые две соискательницы явно позволяют дать волю воображению – как партитуры с изящным почерком томились на нижних полках, рядом с кулинарными книгами и пособиями по кройке, и ждали, когда кто-то снова откроет дверь нотного архива и впустит в них немного воздуха.

Leikie Glick. Photo by Gal Casirer
На самом деле партитуры дам-с, конечно же, томились в музыкальных библиотеках, без всяких там женских глупостей; и женская (уж простите, иначе тут не скажешь) музыка всё это время текла – как подземная река, а над ней гремели мужские фанфары, строились эстетические соборы, спорили критики и дирижеры, не догадываясь, что у них под ногами – целый тайный водоносный слой. Иногда эта река прорывалась наружу – в случайной публикации, редком исполнении, в письме, написанном от руки и не отправленном. Но чаще её течение оставалось в тени, полифонически подпевая истории.
Если прислушаться внимательнее, то можно услышать, как в этой реке перекликаются голоса. Звучный, принадлежащий Луизе Фарранк (1804–1875, урожденной Жанне-Луизе Дюмон) – о, то была блистательная медамуазель-композитор XIX века, профессор Парижской консерватории, которая писала симфонии с такой уверенностью, что даже метроном, казалось, вставал по стойке «смирно». Её оркестровые ткани – гибкие, изысканные, полные внутренней свободы, которую тогдашний музыкальный мир не всегда был готов услышать. Родилась она в Париже в семье известного скульптора Жака-Эдме Дюмона, и он, надо отдать ему должное, сразу распознал ее талант, да к тому же определил к лучшим педагогам: девочка изучала фортепиано и теорию музыки у Игнаца Мошелеса, Антона Рейха и Иоганна Непомука Гуммеля. Сочиняющих музыку дам в ту пору как бы и не было (были, конечно, но в тени), однако с 1830-х годов произведения Луизы начали публиковаться и утвердили ее в статусе композитора.
По сей день Фарранк больше известна своей камерной музыкой, нежели симфонической. Нонет ми-бемоль мажор, который исполнит «Израильская Камерата», отсылает к классической структуре струнного квартета гайдновской школы; написан он в 1849 году – примерно через семь лет после того, как Луиза стала первой женщиной–профессором Парижской консерватории. И еще в одном ей повезло: муж Луизы, флейтист Аристид Фарранк, относился к таланту жены с пониманием, он даже основал издательство, в котором вышли в итоге все ее сочинения.
Чуть дальше по течению – Элис Мэри Смит (1839–1884). Викторианская Англия, парадные фасады, жесткие воротнички – и вдруг среди этой строгости раздается ясный, свободный, почти весенний звук ее симфоний. Смит сочиняла, не ожидая ни оваций, ни сценических триумфов, но оставила после себя музыку, в которой нет ни тени подчиненности. Она не ломала стены – она писала за ними партитуры, и стены со временем начали трескаться сами.
Именно так: Элис Мэри Смит – первая женщина, сочинявшая масштабные камерные, хоровые и оркестровые произведения в викторианской Англии, и первая женщина, написавшая симфонию (!), которая к тому же была исполнена публично в год ее написания, то есть в 1863-м. Именно эту симфонию можно будет услышать в ближайших концертах «Израильской Камераты». А родилась Элис Мэри в Лондоне в семье богатого торговца кружевами, так что ничто не предвещало, совсем наоборот. Однако родители таки обучали юную леди игре на фортепиано и композиции – у частных педагогов, чьи фамилии нам ничего не скажут. В 1861 году Лондонское музыкальное общество решило исполнить первый фортепианный квартет, написанный ею. После замужества Смит заняла достойное положение в чопорном обществе, меньше занималась композиторской деятельностью, посвятив время воспитанию двух дочерей. Через несколько лет она вернулась в профессию, чтобы отредактировать некоторые из своих произведений и написать новые, да так увлеклась, что с 1879 года непрерывно сочиняла – из мало-мальски известного назову ее кантату «Ода северо-западному ветру». Все ее увертюры программны и основаны на поэтических или мифологических темах, в отличие от ее же симфоний. Смит страдала воспалением голосовых связок и после безуспешного лечения умерла от брюшного тифа, захлебнувшись собственной кровью. Но слава о ней уже разнеслась далеко, и в «Нью-Йорк Таймс» даже был опубликован некролог. Ее произведения хранятся в библиотеке Королевской академии музыки в Лондоне, пожизненным, а затем и почетным членом которой она стала в 1880 году. Да, еще раньше, в 1867-м, она была избрана ассоциированным членом Королевского филармонического общества, поскольку полное членство для женщин не допускалось: во времена оны гендер еще играл свою роль.

Ayala Asherov. Photo by מנחה נופה
У берегов, совсем близко – Аяла Ашеров. Современность, свет, живой пульс. Ее музыка не течет по подземным рекам, она прокладывает свои русла на поверхности, точно и дерзко. Аяла Ашеров родилась в 1968 году в Тель-Авиве, окончила школу «Римон», колледж Беркли в Бостоне и Университет Северной Каролины по специальности «композиция и создание музыки к кинофильмам». Наиболее известная ее работа – камерная опера «David in Love» по пьесе Иегошуа Соболя. Ее «Изкор» – Виолончельный концерт, выросший из сочинения для виолончели соло в исполнении Дайан Чаплин и Jewish Community Orchestra Портленда прозвучал в канун второй годовщины событий 7 октября. Ашеров жила в США, где работала на образовательном телевидении, участвовала в театральных и танцевальных постановках, а также создала собственное шоу на основе своего альбома «Цвета и формы». Она инициировала интерактивную образовательную программу для детей «Музыка рассказывает историю», по возвращении в Израиль преподавала в Академии музыки и танца в Иерусалиме. Редактор и ведущая программы на радиостанции «КАН – Коль ха-Музика». Ее песня «By the Length of the Sea», исполненная Офрой Хазой, вошла в пантеон ивритской песенной культуры. Аяла – дочь актеров театра «Габима» Миши Ашерова и Далии Фридланд; ее бабушка и дедушка были одними из основателей театра.
И вот что мы услышим – «Лунный цикл» для альта с оркестром (солирует та самая Лейки Глик, которая достойна отдельного рассказа – но давайте о ней уж в рецензии, хорошо?). Названия частей – просто песня: Полнолуние / Полумесяц / Лунный танец / Сумерки / Последняя луна. И вообще всё непросто, вот что рассказывает об этом Аяла: «Я написала «Лунный цикл» весной 2010 года в колонии для творческих людей в Аппалачах, Северная Каролина. Тогда я прониклась свободным духом местных индейцев, которые сумели устроить свою жизнь в соответствии с течением реки и цветением природы весной. Пять частей постепенно наполнялись ощущением ночей, полных любви к этому свету и его превращениям, к неписаным законам, по которым жили люди, проходившие по этому хребту задолго до меня. Эти ощущения приобретают особую значимость в эпоху безэмоционального искусственного интеллекта, лишённого какой-либо духовной связи с природой, – эпоху, когда он захватывает человеческий мир и угрожает погубить душу и чувства человека. В знак признательности тем племенам, прошлым и настоящим, которые умели жить в согласии с дыханием земли и светом луны, выражавшими ритм их существования – и одновременно противостоянию отдельного человека, диссонирующего чудесам времени, я написала это произведение».
А поскольку гендер в нынешнем мире – понятие все-таки условное, в программе на самом последнем месте оказалась Пятая симфония Шуберта. Мы с первой скрипкой оркестра пытались допытаться у ИИ, что такого женского в Шуберте, так вот, он нам ответил, мол, музыкальный язык его – легкость, грация, лиризм, ну и Пятая симфония – изящная, прозрачная, совсем не маскулинная; интровертность опять же, «внутренний мир». Шуберт написал эту симфонию в 19 лет – «это период, когда романтические идеалы, в том числе женственности, переживаются особенно остро и вдохновенно, – доложил ИИ. – Возможно, в этом возрасте он стремился выразить нечто эфемерное, легкое и чистое – идеализированный образ женщины». Добавлю от себя, что Пятая симфония скромна с точки зрения тематизма и с точки зрения оркестрового состава: без кларнетов, труб и литавр, вероятно, потому, что изначально предназначалась для исполнения в любительском оркестре; действительно, впервые она была исполнена именно в таком оркестре, причем Шуберт был одним из скрипачей. Что позволяет нам опять-таки сказать, дескать, тембровая палитра Шуберта близка к женскому голосу, хм.
И да, дирижирует концертами Михаил Меринг – чудесный дирижер и кларнетист, давно уже подобравший ключи к храму музыки и переступивший его порог. Что ж, войдем и мы.
«Израильская Камерата. Иерусалим»
Второй концерт цикла «Инструменты и голоса»: Женщины в храме музыки»
Михаил Меринг, дирижер
Лейки Глик, альт
Луиза Фарранк / Нонет ми-бемоль мажор для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны, скрипки, альта, виолончели и контрабаса, соч. 38
Аяла Ашеров / «Лунный цикл» для альта с оркестром
Полнолуние / Полумесяц / Лунный танец / Сумерки / Последняя луна
Элис Мэри Смит / Из Симфонии № 1 до минор
Франц Шуберт / Симфония № 5 си-бемоль мажор, D. 485
24.10.25 Тель-Авивский музей искусств, зал Реканати, 12:00
25.10.25 Институт Вейцмана в Реховоте, Аудитория Михаэля Села, 20:00
26.10.25 Центр искусств «Эльма», Зихрон-Яаков, 20:00
27.10.25 YMCA, Иерусалим, 20:00
Заказать билеты |





|
 |
Элишева Несис.
«Стервозное танго»

|