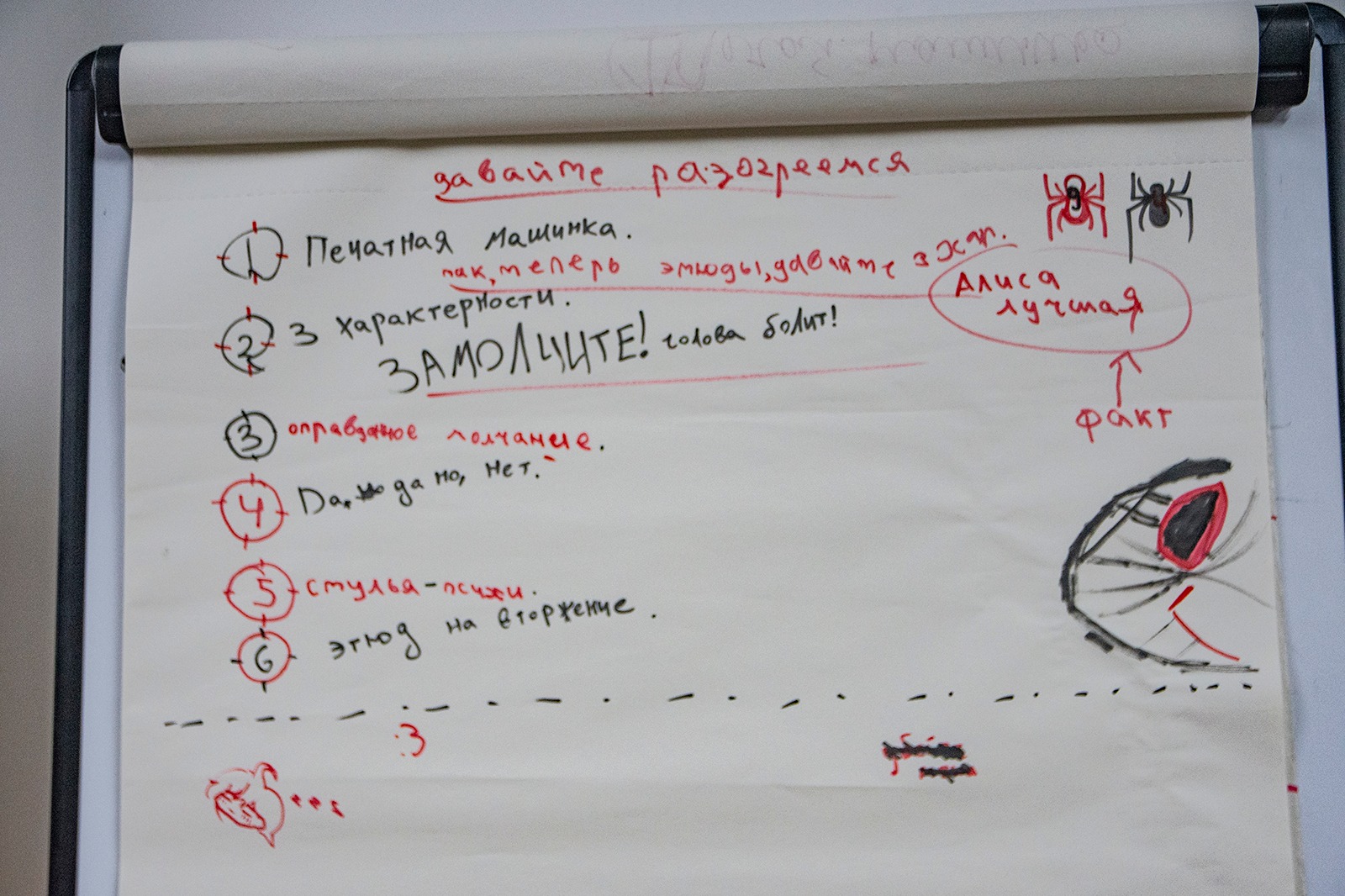«Паразиты» Пон Чжун Хо
Нечто столь же прекрасное, что и «Магазинные воришки», только с бо́льшим драйвом. Начинаешь совершенно иначе воспринимать философию бытия (не азиаты мы...) и улавливать запах бедности.
«Паразиты» – первый южнокорейский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Снял шедевр Пон Чжун Хо, в привычном для себя мультижанре, а именно в жанре «пончжунхо». Как всегда, цепляет.
«Синонимы» Надава Лапида
По словам режиссера, почти всё, что происходит в фильме с Йоавом, в том или ином виде случилось с ним самим, когда он после армии приехал в Париж. У Йоава (чей тезка, библейский Йоав был главнокомандующим царя Давида, взявшим Иерусалим) – посттравма и иллюзии, замешанные на мифе о герое Гекторе, защитнике Трои. Видно, таковым он себя и воображает, когда устраивается работать охранником в израильское посольство и когда учит французский в OFII. Но ведь научиться говорить на языке великих философов еще не значит расстаться с собственной идентичностью и стать французом. Сначала надо взять другую крепость – самого себя.
«Frantz» Франсуа Озона
В этой картине сходятся черное и белое (хотя невзначай, того и гляди, вдруг проглянет цветное исподнее), витальное и мортальное, французское и немецкое. Персонажи переходят с одного языка на другой и обратно, зрят природу в цвете от избытка чувств, мерещат невесть откуда воскресших юношей, играющих на скрипке, и вообще чувствуют себя неуютно на этом черно-белом свете. Французы ненавидят немцев, а немцы французов, ибо действие происходит аккурат после Первой мировой. Разрушенный войной комфортный мир сместил систему тоник и доминант, и Франсуа Озон поочередно запускает в наши (д)уши распеваемую народным хором «Марсельезу» и исполняемую оркестром Парижской оперы «Шехерезаду» Римского-Корсакова. На территории мучительного диссонанса, сдобренного не находящим разрешения тристан-аккордом, и обретаются герои фильма. Оттого распутать немецко-французскую головоломку зрителю удается далеко не сразу.
«Патерсон» Джима Джармуша
В этом фильме всё двоится: стихотворец Патерсон и городишко Патерсон, bus driver и Адам Драйвер, волоокая иранка Лаура и одноименная муза Петрарки, японец Ясудзиро Одзу и японец Масатоси Нагасэ, черно-белые интерьеры и черно-белые капкейки, близнецы и поэты. Да, здесь все немножко поэты, и в этом как раз нет ничего странного. Потому что Джармуш и сам поэт, и фильмы свои он складывает как стихи. Звуковые картины, настоянные на медитации, на многочисленных повторах, на вроде бы рутине, а в действительности – на нарочитой простоте мироздания. Ибо любой поэт, даже если он не поэт, может начать всё с чистого листа.
«Ужасных родителей» Жана Кокто
Необычный для нашего пейзажа режиссер Гади Ролл поставил в Беэр-Шевском театре спектакль о французах, которые говорят быстро, а живут смутно. Проблемы – вечные, старые, как мир: муж охладел к жене, давно и безвозвратно, а она не намерена делить сына с какой-то женщиной, и оттого кончает с собой. Жан Кокто, драматург, поэт, эстет, экспериментатор, был знаком с похожей ситуацией: мать его возлюбленного Жана Маре была столь же эгоистичной.
Сценограф Кинерет Киш нашла правильный и стильный образ спектакля – что-то среднее между офисом, складом, гостиницей, вокзалом; место нигде. Амир Криеф и Шири Голан, уникальный актерский дуэт, уже много раз создававший настроение причастности и глубины в разном материале, достойно отыгрывает смятенный трагифарс. Жан Кокто – в Беэр-Шеве. Новые сказки для взрослых
Хоть и пичкали нас в детстве недетскими и отнюдь не невинными сказками Шарля Перро и братьев Гримм, знать не знали и ведать не ведали мы, кто все это сотворил. А началось все со «Сказки сказок» - пентамерона неаполитанского поэта, писателя, солдата и госчиновника Джамбаттисты Базиле. Именно в этом сборнике впервые появились прототипы будущих хрестоматийных сказочных героев, и именно по этим сюжетам-самородкам снял свои «Страшные сказки» итальянский режиссер Маттео Гарроне. Правда, под сюжетной подкладкой ощутимо просматриваются Юнг с Грофом и Фрезером, зато цепляет. Из актеров, коих Гарроне удалось подбить на эту авантюру, отметим Сальму Хайек в роли бездетной королевы и Венсана Касселя в роли короля, влюбившегося в голос старушки-затворницы. Из страннейших типов, чьи портреты украсили бы любую галерею гротеска, - короля-самодура (Тоби Джонс), который вырастил блоху до размеров кабана под кроватью в собственной спальне. Отметим также невероятно красивые с пластической точки зрения кадры: оператором выступил поляк Питер Сушицки, явно черпавший вдохновение в иллюстрациях старинных сказок Эдмунда Дюлака и Гюстава Доре.
Kutiman Mix the City
Kutiman Mix the City – обалденный интерактивный проект, выросший из звуков города-без-перерыва. Основан он на понимании того, что у каждого города есть свой собственный звук. Израильский музыкант планетарного масштаба Офир Кутель, выступающий под псевдонимом Kutiman, король ютьюбовой толпы, предоставляет всем шанс создать собственный ремикс из звуков Тель-Авива – на вашей собственной клавиатуре. Смикшировать вибрации города-без-перерыва на интерактивной видеоплатформе можно простым нажатием пальца (главное, конечно, попасть в такт). Приступайте.
Видеоархив событий конкурса Рубинштейна
Все события XIV Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна - в нашем видеоархиве! Запись выступлений участников в реситалях, запись выступлений финалистов с камерными составами и с двумя оркестрами - здесь. Альбом песен Ханоха Левина
Люди на редкость талантливые и среди коллег по шоу-бизнесу явно выделяющиеся - Шломи Шабан и Каролина - объединились в тандем. И записали альбом песен на стихи Ханоха Левина « На побегушках у жизни». Любопытно, что язвительные левиновские тексты вдруг зазвучали нежно и трогательно. Грустинка с прищуром, впрочем, сохранилась.
«Год, прожитый по‑библейски» Эя Джея Джейкобса
...где автор на один год изменил свою жизнь: прожил его согласно всем законам Книги книг.
«Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов» Ёко Тавада
Жизнь – это долгое путешествие в вагоне на нижней полке.
Скрюченному человеку трудно держать равновесие. Но это тебя уже не беспокоит. Нельзя сказать, что тебе не нравится застывать в какой-нибудь позе. Но то, что происходит потом… Вот Кузнец выковал твою позу. Теперь ты должна сохранять равновесие в этом неустойчивом положении, а он всматривается в тебя, словно посетитель музея в греческую скульптуру. Потом он начинает исправлять положение твоих ног. Это похоже на внезапный пинок. Он пристает со своими замечаниями, а твое тело уже привыкло к своему прежнему положению. Есть такие части тела, которые вскипают от возмущения, если к ним грубо прикоснуться. «Комедию д'искусства» Кристофера Мура
На сей раз муза-матерщинница Кристофера Мура подсела на импрессионистскую тему. В июле 1890 года Винсент Ван Гог отправился в кукурузное поле и выстрелил себе в сердце. Вот тебе и joie de vivre. А все потому, что незадолго до этого стал до жути бояться одного из оттенков синего. Дабы установить причины сказанного, пекарь-художник Люсьен Леззард и бонвиван Тулуз-Лотрек совершают одиссею по богемному миру Парижа на излете XIX столетия.
В романе «Sacré Bleu. Комедия д'искусства» привычное шутовство автора вкупе с псевдодокументальностью изящно растворяется в Священной Сини, подгоняемое собственным муровским напутствием: «Я знаю, что вы сейчас думаете: «Ну, спасибо тебе огромное, Крис, теперь ты всем испортил еще и живопись». «Пфитц» Эндрю Крами
Шотландец Эндрю Крами начертал на бумаге план столицы воображариума, величайшего града просвещения, лихо доказав, что написанное существует даже при отсутствии реального автора. Ибо «язык есть изощреннейшая из иллюзий, разговор - самая обманчивая форма поведения… а сами мы - измышления, мимолетная мысль в некоем мозгу, жест, вряд ли достойный толкования». Получилась сюрреалистическая притча-лабиринт о несуществующих городах - точнее, существующих лишь на бумаге; об их несуществующих жителях с несуществующими мыслями; о несуществующем безумном писателе с псевдобиографией и его существующих романах; о несуществующих графах, слугах и видимости общения; о великом князе, всё это придумавшем (его, естественно, тоже не существует). Рекомендуется любителям медитативного погружения в небыть.
«Тинтина и тайну литературы» Тома Маккарти
Что такое литературный вымысел и как функционирует сегодня искусство, окруженное прочной медийной сетью? Сей непростой предмет исследует эссе британского писателя-интеллектуала о неунывающем репортере с хохолком. Появился он, если помните, аж в 1929-м - стараниями бельгийского художника Эрже. Неповторимый флёр достоверности вокруг вымысла сделал цикл комиксов «Приключения Тинтина» культовым, а его герой получил прописку в новейшей истории. Так, значит, это литература? Вроде бы да, но ничего нельзя знать доподлинно.
«Неполную, но окончательную историю...» Стивена Фрая
«Неполная, но окончательная история классической музыки» записного британского комика - чтиво, побуждающее мгновенно испустить ноту: совершенную или несовершенную, голосом или на клавишах/струнах - не суть. А затем удариться в запой - книжный запой, вестимо, и испить эту чашу до дна. Перейти вместе с автором от нотного стана к женскому, познать, отчего «Мрачный Соломон сиротливо растит флоксы», а правая рука Рахманинова напоминает динозавра, и прочая. Всё это крайне занятно, так что... почему бы и нет?
Тайские роти
Истинно райское лакомство - тайские блинчики из слоеного теста с начинкой из банана. Обжаривается блинчик с обеих сторон до золотистости и помещается в теплые кокосовые сливки или в заварной крем (можно использовать крем из сгущенного молока). Подается с пылу, с жару, украшенный сверху ледяным кокосовым сорбе - да подается не абы где, а в сиамском ресторане «Тигровая лилия» (Tiger Lilly) в тель-авивской Сароне. Шомлойскую галушку
Легендарная шомлойская галушка (somlói galuska) - винтажный ромовый десерт, придуманный, по легенде, простым официантом. Отведать ее можно практически в любом ресторане Будапешта - если повезет. Вопреки обманчиво простому названию, сей кондитерский изыск являет собой нечто крайне сложносочиненное: бисквит темный, бисквит светлый, сливки взбитые, цедра лимонная, цедра апельсиновая, крем заварной (патисьер с ванилью, ммм), шоколад, ягоды, орехи, ром... Что ни слой - то скрытый смысл. Прощай, талия.
Бисквитную пасту Lotus с карамелью
Классическое бельгийское лакомство из невероятного печенья - эталона всех печений в мире. Деликатес со вкусом карамели нужно есть медленно, миниатюрной ложечкой - ибо паста так и тает во рту. Остановиться попросту невозможно. Невзирая на калории.
Шоколад с васаби
Изысканный тандем - горький шоколад и зеленая японская приправа - кому-то может показаться сочетанием несочетаемого. Однако распробовавшие это лакомство считают иначе. Вердикт: правильный десерт для тех, кто любит погорячее. А также для тех, кто недавно перечитывал книгу Джоанн Харрис и пересматривал фильм Жерара Кравчика.
Торт «Саркози»
Как и Париж, десерт имени французского экс-президента явно стоит мессы. Оттого и подают его в ресторане Messa на богемной тель-авивской улице ха-Арбаа. Горько-шоколадное безумие (шоколад, заметим, нескольких сортов - и все отменные) заставляет поверить в то, что Саркози вернется. Не иначе.
|
 |
Одноразовая жизнь
| 15.05.2014Маша Хинич |
1
Под аккомпанемент бессмысленного щелканья компьютерной мышки уходит постепенно умение наблюдать, а ведь «Бог в деталях», как сказал поначалу Гете, Флобер оспорил – «Дьявол прячется в мелочах», но мне почему-то нравится, когда эту здравую мысль, явно присущую человечеству издревле и внесенную в английскую пословицу, приписывают архитектору-модернисту немецкого происхождения Людвигу Мис ван дер Роэ, автору стеклянно-небоскребного стиля. Так он высказался о павильоне по его проекту – павильоне Веймарской республики на международной выставке в Барселоне в 1929-м, который прекрасно описал в своей книге «Декоратор. Книга вещности» Эгген Тургрим. Я увидела огромную подсвеченную фотографию этого павильона на выставке Джеффа Уолла в Тель-Авивском музее искусств – как раз наутро после того, как ночью читала эту книгу в переводе с норвежского (после закрытия выставки в Барселоне павильон был демонтирован и отправлен в Германию, где бесследно пропал). В 1980 году власти Барселоны приняли решение восстановить павильон в его первоначальном виде. Работы по восстановлению длились с 1983 по 1986 годы по сохранившимся фотографиям и оригинальным чертежам Миса ван дер Роэ. В настоящее время здание павильона является музеем).

Отраженное небо
Так вот, о деталях: они мелкими колышками прибивают нашу жизнь к памяти и позволяют думать, что мы существуем не только в своих снах, не только в жизнях-сновидениях. Философствование мое было вызвано урчанием в голодном желудке. Я не ела почти сутки – некогда было сходить за продуктами, а тель-авивские кафе стали отгонять меня своим деланным денежным радушием, – и в очередной миллионный раз ехала на Голаны. В долине, чья красота ушла в романы Шалева, есть все еще несколько забегаловок – не новых стекляшек кафе-кафе-арома вплотную к бензиновым насосам, а арабских хибар с обязательной вывеской «Ресторан Восточный Братьев Таких-То». Такие-То уже ушли на покой, Ресторанами Восточными заправляют дети и внуки, сохранившие стиль и орфографию оригинала: стены, крашеные белой краской внахлест и в пупырышек, выцветшие синие плакаты ядовито-зеленых «картиков» (их еще продают?), на оплывшей от жары плазме суетится такой же выцветший боевик с уже располневшим Стивеном Сигалом. За кассой – бойкая девица, крутящая на пальце связку ключей; за прилавками – трое юношей с оплывшими же маслянистыми глазами. Впрочем, они отменно вежливы и делают столь же отменный фалафель – вкуснее даже, чем у «Теумим» в Гиватаиме. Столы покрыты клеенкой с рисунком «смерть ботанику», стулья – коричневым дерматином-антиком. Будь внуки Таких-То порасторопнее, задвижки на дверях в туалете они могли бы сдать в краеведческий музей Долины, как ценный экспонат. «Сядьте, женщина, отдохните…» – вкрадчиво велит мне юноша. Я оседаю в дерматин, и постепенно детали хамсинного дня мелким песком проникают мне под веки.
2
Жизнь утекает в телефонные разговоры, дергается под пульсирующе-раздражающие мелодии звонков, ворующие у нас минуты необходимого одиночества. Самые странные телефонные звонки раздаются обычно между 9 и 10 вечера – это мой «Час между собакой и волком» – мой сумеречный час, а не предрассветный, будь он между волком и собакой.

Песчаное небо
Откуда у звонящих, страждущих немедленной помощи и ищущих всеобъемлющей информации, мой телефон – я не знаю и никогда не спрашиваю. Но люди – о, люди! Как же мы все-таки разнообразны в своих запросах: «Мне сказали, что вы можете навести на консьержей главных тель-авивских гостиниц – поделитесь наводками?». «Мне сказали, что вас пригласили вести кулинарную программу – дадите рецепты?» – счастье, что это не слышат дети, взращенные на салате и котлетах. «Что ты думаешь по поводу эзотерических индуистских течений в нынешней России?» – звонок на иврите из Майами. «Мне сказали, что в вашей галерее-ресторане-гостинице-оффисе-выставочном зале можно бесплатно-безвозмездно-на паях-без процентов...» – такая тема звенит в звонках чаще всего и чрезвычайно возвышает меня в собственных глазах. Я раздуваюсь от важности и становлюсь похожей на Мистера Твистера, пока банковская реальность не возвращает меня в сдутую финансами сумеречную зону между стиркой и мытьем посуды. «У тебя нет телефона Эхуда Барака?»; «Ты знаешь, кто такая Анна Каренина?»; «Ты знакома с тем, кто вывез в Лондон рукописи из Каирской генизы?»; «Вы можете быстро найти дешевый билет в Женеву?»; «У вас есть доступ в центральный архив?»; «Срочно – пожалуйста, я вас прошу – срочно, прямо сейчас, надо организовать экскурсию и рассказать, что такое аргаман и тхелет»; «Я – профессиональный астролог, но хочу вам рассказать о шунтировании на сердце»; «Быстро объясните, как заехать на подземную стоянку такую-то»; «Какие часы работы у Тель-Авивского музея?» – почему это надо узнавать у незнакомого человека в 10 вечера? «Я знаю, что вы живете в заповеднике. Какие животные ходят вокруг дома, кого я могу погладить, выйдя на террасу, – олененка?» – «Да у нас все больше комары», – честно отвечаю я и в тот же момент понимаю, что нельзя лишать иллюзий. На деле, это чистая правда – о том, как под холодным дождем к нам пришла, сомкнувшись из капель в материю, серебряная лисица (та самая – из пелевинской «Священной книги оборотня») и, не убоявшись людей, воровала со стола еду.
Серебряная лисица пришла на пасхальный седер четыре года назад. Стол стоял на улице, начинал накрапывать дождь – над мацой раскрыли зонт. Компания пребывала в том предписанном Агадой состоянии духа, что наступает после четвертого бокала, и затейливо выводила куплеты песенки про купленного за две зузы козленка на мотив «Один, кто знает». Лисица появилась мгновенно – возникла на дальнем от меня конце стола, стряхнула с себя воду, попробовала неприкрытую, размякшую, пропитавшуюся дождем мацу и перескочила к пасхальному блюду, где все еще лежала косточка-зроа. Трапезничающие продолжали петь – лисицу видели все, но поверить в нее было бы настолько нерационально, что оставалось только самозабвенно выводить рулады. Ткнувшись мимоходом носом в свекольный салат, серебристое меховое видение подобралось ко мне. Нам не надо было глядеть друг другу в глаза – мы уже все поняли. Она приходила еще два раза, а потом ее унес суховей.

3
Можно учить историю по энциклопедиям, вгрызаться в них, урча от количества перевариваемой информации, немедленно забываемой в электронных гаджетах, вызывающих последнее время нечто вроде нервной компьютерной чесотки, идиосинкразии на мерцание. Можно по все еще бумажным книгам, упорно цепляющихся корешками за – увы – не резиновые полки не резиновых стен не самоувеличивающихся квартир. Из любимых бумажных, да и вообще из самых нужных – «Вчера-позавчера» Агнона, каждая фраза которого вгоняет в легкую, раздумчивую и, пожалуй, необходимую депрессию, точно указывающую, что все не так. «Да и во всем остальном он вел себя, как большинство наших товарищей. Не ходил в синагогу, и не накладывал тфилин, и не соблюдал субботу, и не чтил праздников. Вначале он делал различие между заповедями повелевающими и заповедями запрещающими. Остерегался нарушить запрещающую заповедь и ленился исполнить повелевающую заповедь, в конце концов, перестал делать различие между ними. И если приходилось ему нарушить одну из запрещающих заповедей, не боялся. Так поступал он не в результате особых размышлений о вере и о религии, а оттого, что жил среди людей, пришедших к выводу, что религия не важна, а так как не видели они необходимости в религии, не видели необходимости в соблюдении ее заповедей. Напротив, они, будучи честными людьми, считали бы себя двуличными, если бы исполняли заповеди религии, тогда как сердце их далеко от нее.
Смутная мысль владела Ицхаком независимо от него, смутная, неясная идея, которая направляла его действия. Ведь Эрец Исраэль делится на Старый ишув и на Новый ишув, эти ведут себя так, а те – иначе. И если он отождествляет себя с Новым ишувом, зачем ему вести себя, как жители Старого ишува?»
Эти ведут себя так, а те – иначе. Но, тем не менее, рвание музейно-театральной тельняшки на груди, моя культурологическая ажитация была замечена. Репатриантско-городское начальство населенного пункта N попросило прочитать лекцию о культуре в Израиле («или об израильской культуре – как хотите, так и назовите», – ласково прокурлыкала телефонная трубка) в некой группе некого ульпана. «Я вас очень прошу, не опаздывайте, – сказала милейшая дама NN. – А еще лучше, если вы придете на 15 минут раньше, подыметесь в класс и подождете прямо среди учеников, когда закончится предыдущий урок. И сразу – я вас очень прошу – сразу – заводите свою культурную песнь. Я даже настаиваю на этом. Никаких перерывов».

Рваное небо
Решение не опаздывать было нелегким, его исполнение казалось неосуществимым, но небеса благоволили, место на стоянке нашлось сразу, я вошла в здание – прямо, по лестнице на третий этаж, в коридор направо, вторая дверь налево – схема захвата была выучена наизусть. Перед дверью в класс я остановилась: было слышно, как за перегородкой стройным хором спрягаются глаголы. Войти я не решалась – строгое воспитание не позволяло вмешаться в биньяны, спряжения и времена. «Пааль», «нифъаль», «пиэль», повелительное наклонение звенело за дверью. Урок закончился, дверь из-за резкого рывка слетела с петель – три десятка учащихся ульпана ринулись вниз по лестнице.
Они промчались сквозь меня, как стая сытых шакалов – ни плоть, ни слова мои им были не нужны и не важны. Соскребя бренные останки со ступеней, легковесным завуалированным развлекательным облачком я вплыла в класс. «Я прошу за них прощения», – опустив глаза на учебник иврита, смущенно сказала пожилая учительница-йеменка. «Культура, лекция, культура, лекция», – растерянно шептала одна-единственная заинтересовавшаяся нашим еврейско-израильским бытием слушательница, которой – эксклюзивному уникуму – и была поведана сага об израильской культуре (культуре в Израиле?) в трех академических часах. После лекции я осторожно-вкрадчиво полюбопытствовала: а кто же были эти сбежавшие? «О! У нас интересный класс: три украинских жены, три монгольские, одна китаянка, один греческий муж, несколько молодых пар из России – они все собираются эмигрировать в Канаду. Двое сумасшедших – один из Аргентины, другая из Нью-Йорка – чего ради они сюда из Америки приехали? Пара рабочих из Молдавии…» – «А евреи среди вас есть?» – осипши от смущения прошептала я, говорить вслух казалось уже неприличным. «Мне кажется, – чистосердечно ответила моя слушательница, – что двое или трое есть, но они стесняются в этом признаться».
«Предыдущее поколение пело песни Сиона; это поколение – другое, потускнели для них эти песни, но, если тоскующая душа томится, она просит то, что потеряла».
4
Сны приходят еженощно – в них я живу и довольно активно действую еще в двух реальностях. Успеть во сне надо много, дел – полно, да и там надо ходить на работу, и потому я всегда – даже во сне – опаздываю в своей безумной рутине. В видимой стороннему глазу жизни я тоже всегда опаздываю, потому иногда мною руководят подруги, ревностно следящие, чтобы я хоть куда-нибудь не опоздала, например, на экскурсию.

Маковое небо
Лет уже немало тому назад подруга пригласила меня на экскурсию, справедливо рассудив, что без нее я никогда Туда не соберусь и никогда Туда не попаду. Туда – в свежеоткрывшийся ангар первого «Тив-Таама» в Ришон ле-Ционе. Там я впервые испытала культурный шок, несравнимый даже с дебютным посещением Старой автобусной станции в Тель-Авиве, когда вечерняя обнаглевшая и обалдевшая от этой наглости крыса стащила у меня с ноги сандалию. Было это задолго до того, как стали строить уже успевшую стать тоже старой Новую автобусную станцию. Экскурсия состоялась за день до Песаха – подруге надо было совместить попытку «развить и образовать» с предпраздничными покупками. На входе посетителей приветствовал огромный плакат в виде арки – мне он напомнил по форме русский кокошник – с кичливой надписью «Расхватывайте макароны, самые дешевые макароны нашей промзоны!».
Надо сказать, что в те времена – поколение назад – перед Песахом в маленьких бакалейных лавочках мучные изделия заранее убирали с глаз долой в недоступные кладовки, а в больших «суперах» полки с некошерными продуктами закрывали плотной непрозрачной клеенкой, и едва ли не стражника к ним приставляли, чтобы любопытствующие ту клеенку не приподымали. Культурный макаронный шок был так силен, что мое образование в «Тив-Тааме» скончалось на месте, хотя еще две – уже самостоятельные – попытки приобщиться заново к вобле и черному хлебу я предприняла.
Первая попытка состоялась двадцать лет назад в давно скончавшемся мутного стекла «русском» магазине в черте оседлости Большого Тель-Авива. «Девушка, вы что – нездешняя? Про сардины спрашиваете и тихо разговариваете. И глаза разуйте – черный хлеб на окне!» – разговор был короткий и напоминал лающие окрики на уроках начальной военной подготовки, от которых меня отстранили за нефальшивую неуклюжесть и неумение «преломить ствол», разбирая винтовку.
Была еще одна попытка – лет пять назад в канун Нового года, но мой диалог с продавщицей настолько абсурден, что в него никто не верит. Семейство решило, что лучшее угощение на Новый год – это блины с красной икрой. Возразить тут нечего, я напекла блины и поехала за красной икрой – забегая вперед, скажу, что я ее так и не купила. Потом купил муж, а позже, когда мы оба на минуту вышли из кухни, икру еще до Нового года сожрали коты – все 800 грамм – чтоб неповадно было. Так вот: я приехала в магазин – там было три сорта икры. «Можно попробовать?» – «Да», – решительно ответила продавщица, всем, абсолютно всем, даже оттенком губной помады, походящая на завуча нашей московской английской спецшколы. Она взяла одноразовую пластмассовую чайную ложечку, черпнула икры из жбана, занимавшего кубический метр в пузатой прозрачной витрине, и сказала – протяните руку! Я протянула – эта строгая властная дама вывалила содержимое ложечки на тыльную сторону моей ладони и приказала – лизните! Вторичного культурного шока не случилось – легкий столбняк, секундное замешательство, попытка достойно выглядеть на чужой игровой площадке, лицедейство не на своей сцене. «А ложечкой попробовать можно?» – «Ложечек на всех не напастись!». «А икры на всех хватает?» – «А икра – вот она есть! Не моя! И вообще, – сказала продавщица, резко сменив галс и гнев на милость, – вы не наша (это я уже слышала и двадцать лет назад, и совсем уже давно, когда нас – троих еврейских московских детей – сажали на горшки в отдельном углу, подальше от группы крепких заводских наследников пролетарского труда в детском саду на Варшавском шоссе), вы не наша, не городская и, наверное, вы вообще инопланетянка». Так я и ушла неопознанным зеленым человечком к своим котам под Новый год, в свои сны.

Тростниковое небо
А после Нового года был хамсин, а после хамсина пошел дождь – страшный тропический 10-минутный ливень. Он пронзил дом через недостроенный второй этаж, коричневым мутным водопадом спустился по стене, залил пол желеобразной жидкостью и испарился, оставив на всем, даже на одежде, тонкие овальные лепешки спрессованного мелкого песка. Постоянное ожидание дождя и постоянная борьба с песком – я все чаще вспоминаю «Женщину в песках» Кобо Абэ. «Эта картина вечно движущегося песка невыразимо волновала и как-то подхлестывала его. Бесплодность песка, каким он представляется обычно, объясняется не просто его сухостью, а беспрерывным движением, которого не может перенести ничто живое. Как это похоже на унылую жизнь людей, изо дня в день цепляющихся друг за друга. Да, песок не особенно пригоден для жизни. Но является ли незыблемость абсолютно необходимой для существования? Разве от стремления утвердить незыблемость не возникает отвратительное соперничество?»
Фото автора |





|
 |
Элишева Несис.
«Стервозное танго»

|