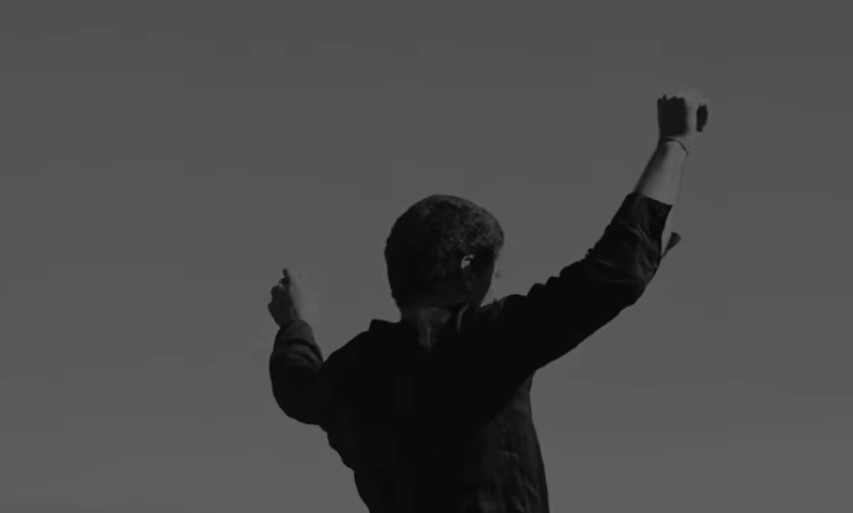«Паразиты» Пон Чжун Хо
Нечто столь же прекрасное, что и «Магазинные воришки», только с бо́льшим драйвом. Начинаешь совершенно иначе воспринимать философию бытия (не азиаты мы...) и улавливать запах бедности.
«Паразиты» – первый южнокорейский фильм, удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля. Снял шедевр Пон Чжун Хо, в привычном для себя мультижанре, а именно в жанре «пончжунхо». Как всегда, цепляет.
«Синонимы» Надава Лапида
По словам режиссера, почти всё, что происходит в фильме с Йоавом, в том или ином виде случилось с ним самим, когда он после армии приехал в Париж. У Йоава (чей тезка, библейский Йоав был главнокомандующим царя Давида, взявшим Иерусалим) – посттравма и иллюзии, замешанные на мифе о герое Гекторе, защитнике Трои. Видно, таковым он себя и воображает, когда устраивается работать охранником в израильское посольство и когда учит французский в OFII. Но ведь научиться говорить на языке великих философов еще не значит расстаться с собственной идентичностью и стать французом. Сначала надо взять другую крепость – самого себя.
«Frantz» Франсуа Озона
В этой картине сходятся черное и белое (хотя невзначай, того и гляди, вдруг проглянет цветное исподнее), витальное и мортальное, французское и немецкое. Персонажи переходят с одного языка на другой и обратно, зрят природу в цвете от избытка чувств, мерещат невесть откуда воскресших юношей, играющих на скрипке, и вообще чувствуют себя неуютно на этом черно-белом свете. Французы ненавидят немцев, а немцы французов, ибо действие происходит аккурат после Первой мировой. Разрушенный войной комфортный мир сместил систему тоник и доминант, и Франсуа Озон поочередно запускает в наши (д)уши распеваемую народным хором «Марсельезу» и исполняемую оркестром Парижской оперы «Шехерезаду» Римского-Корсакова. На территории мучительного диссонанса, сдобренного не находящим разрешения тристан-аккордом, и обретаются герои фильма. Оттого распутать немецко-французскую головоломку зрителю удается далеко не сразу.
«Патерсон» Джима Джармуша
В этом фильме всё двоится: стихотворец Патерсон и городишко Патерсон, bus driver и Адам Драйвер, волоокая иранка Лаура и одноименная муза Петрарки, японец Ясудзиро Одзу и японец Масатоси Нагасэ, черно-белые интерьеры и черно-белые капкейки, близнецы и поэты. Да, здесь все немножко поэты, и в этом как раз нет ничего странного. Потому что Джармуш и сам поэт, и фильмы свои он складывает как стихи. Звуковые картины, настоянные на медитации, на многочисленных повторах, на вроде бы рутине, а в действительности – на нарочитой простоте мироздания. Ибо любой поэт, даже если он не поэт, может начать всё с чистого листа.
«Ужасных родителей» Жана Кокто
Необычный для нашего пейзажа режиссер Гади Ролл поставил в Беэр-Шевском театре спектакль о французах, которые говорят быстро, а живут смутно. Проблемы – вечные, старые, как мир: муж охладел к жене, давно и безвозвратно, а она не намерена делить сына с какой-то женщиной, и оттого кончает с собой. Жан Кокто, драматург, поэт, эстет, экспериментатор, был знаком с похожей ситуацией: мать его возлюбленного Жана Маре была столь же эгоистичной.
Сценограф Кинерет Киш нашла правильный и стильный образ спектакля – что-то среднее между офисом, складом, гостиницей, вокзалом; место нигде. Амир Криеф и Шири Голан, уникальный актерский дуэт, уже много раз создававший настроение причастности и глубины в разном материале, достойно отыгрывает смятенный трагифарс. Жан Кокто – в Беэр-Шеве. Новые сказки для взрослых
Хоть и пичкали нас в детстве недетскими и отнюдь не невинными сказками Шарля Перро и братьев Гримм, знать не знали и ведать не ведали мы, кто все это сотворил. А началось все со «Сказки сказок» - пентамерона неаполитанского поэта, писателя, солдата и госчиновника Джамбаттисты Базиле. Именно в этом сборнике впервые появились прототипы будущих хрестоматийных сказочных героев, и именно по этим сюжетам-самородкам снял свои «Страшные сказки» итальянский режиссер Маттео Гарроне. Правда, под сюжетной подкладкой ощутимо просматриваются Юнг с Грофом и Фрезером, зато цепляет. Из актеров, коих Гарроне удалось подбить на эту авантюру, отметим Сальму Хайек в роли бездетной королевы и Венсана Касселя в роли короля, влюбившегося в голос старушки-затворницы. Из страннейших типов, чьи портреты украсили бы любую галерею гротеска, - короля-самодура (Тоби Джонс), который вырастил блоху до размеров кабана под кроватью в собственной спальне. Отметим также невероятно красивые с пластической точки зрения кадры: оператором выступил поляк Питер Сушицки, явно черпавший вдохновение в иллюстрациях старинных сказок Эдмунда Дюлака и Гюстава Доре.
Kutiman Mix the City
Kutiman Mix the City – обалденный интерактивный проект, выросший из звуков города-без-перерыва. Основан он на понимании того, что у каждого города есть свой собственный звук. Израильский музыкант планетарного масштаба Офир Кутель, выступающий под псевдонимом Kutiman, король ютьюбовой толпы, предоставляет всем шанс создать собственный ремикс из звуков Тель-Авива – на вашей собственной клавиатуре. Смикшировать вибрации города-без-перерыва на интерактивной видеоплатформе можно простым нажатием пальца (главное, конечно, попасть в такт). Приступайте.
Видеоархив событий конкурса Рубинштейна
Все события XIV Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна - в нашем видеоархиве! Запись выступлений участников в реситалях, запись выступлений финалистов с камерными составами и с двумя оркестрами - здесь. Альбом песен Ханоха Левина
Люди на редкость талантливые и среди коллег по шоу-бизнесу явно выделяющиеся - Шломи Шабан и Каролина - объединились в тандем. И записали альбом песен на стихи Ханоха Левина « На побегушках у жизни». Любопытно, что язвительные левиновские тексты вдруг зазвучали нежно и трогательно. Грустинка с прищуром, впрочем, сохранилась.
«Год, прожитый по‑библейски» Эя Джея Джейкобса
...где автор на один год изменил свою жизнь: прожил его согласно всем законам Книги книг.
«Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов» Ёко Тавада
Жизнь – это долгое путешествие в вагоне на нижней полке.
Скрюченному человеку трудно держать равновесие. Но это тебя уже не беспокоит. Нельзя сказать, что тебе не нравится застывать в какой-нибудь позе. Но то, что происходит потом… Вот Кузнец выковал твою позу. Теперь ты должна сохранять равновесие в этом неустойчивом положении, а он всматривается в тебя, словно посетитель музея в греческую скульптуру. Потом он начинает исправлять положение твоих ног. Это похоже на внезапный пинок. Он пристает со своими замечаниями, а твое тело уже привыкло к своему прежнему положению. Есть такие части тела, которые вскипают от возмущения, если к ним грубо прикоснуться. «Комедию д'искусства» Кристофера Мура
На сей раз муза-матерщинница Кристофера Мура подсела на импрессионистскую тему. В июле 1890 года Винсент Ван Гог отправился в кукурузное поле и выстрелил себе в сердце. Вот тебе и joie de vivre. А все потому, что незадолго до этого стал до жути бояться одного из оттенков синего. Дабы установить причины сказанного, пекарь-художник Люсьен Леззард и бонвиван Тулуз-Лотрек совершают одиссею по богемному миру Парижа на излете XIX столетия.
В романе «Sacré Bleu. Комедия д'искусства» привычное шутовство автора вкупе с псевдодокументальностью изящно растворяется в Священной Сини, подгоняемое собственным муровским напутствием: «Я знаю, что вы сейчас думаете: «Ну, спасибо тебе огромное, Крис, теперь ты всем испортил еще и живопись». «Пфитц» Эндрю Крами
Шотландец Эндрю Крами начертал на бумаге план столицы воображариума, величайшего града просвещения, лихо доказав, что написанное существует даже при отсутствии реального автора. Ибо «язык есть изощреннейшая из иллюзий, разговор - самая обманчивая форма поведения… а сами мы - измышления, мимолетная мысль в некоем мозгу, жест, вряд ли достойный толкования». Получилась сюрреалистическая притча-лабиринт о несуществующих городах - точнее, существующих лишь на бумаге; об их несуществующих жителях с несуществующими мыслями; о несуществующем безумном писателе с псевдобиографией и его существующих романах; о несуществующих графах, слугах и видимости общения; о великом князе, всё это придумавшем (его, естественно, тоже не существует). Рекомендуется любителям медитативного погружения в небыть.
«Тинтина и тайну литературы» Тома Маккарти
Что такое литературный вымысел и как функционирует сегодня искусство, окруженное прочной медийной сетью? Сей непростой предмет исследует эссе британского писателя-интеллектуала о неунывающем репортере с хохолком. Появился он, если помните, аж в 1929-м - стараниями бельгийского художника Эрже. Неповторимый флёр достоверности вокруг вымысла сделал цикл комиксов «Приключения Тинтина» культовым, а его герой получил прописку в новейшей истории. Так, значит, это литература? Вроде бы да, но ничего нельзя знать доподлинно.
«Неполную, но окончательную историю...» Стивена Фрая
«Неполная, но окончательная история классической музыки» записного британского комика - чтиво, побуждающее мгновенно испустить ноту: совершенную или несовершенную, голосом или на клавишах/струнах - не суть. А затем удариться в запой - книжный запой, вестимо, и испить эту чашу до дна. Перейти вместе с автором от нотного стана к женскому, познать, отчего «Мрачный Соломон сиротливо растит флоксы», а правая рука Рахманинова напоминает динозавра, и прочая. Всё это крайне занятно, так что... почему бы и нет?
Тайские роти
Истинно райское лакомство - тайские блинчики из слоеного теста с начинкой из банана. Обжаривается блинчик с обеих сторон до золотистости и помещается в теплые кокосовые сливки или в заварной крем (можно использовать крем из сгущенного молока). Подается с пылу, с жару, украшенный сверху ледяным кокосовым сорбе - да подается не абы где, а в сиамском ресторане «Тигровая лилия» (Tiger Lilly) в тель-авивской Сароне. Шомлойскую галушку
Легендарная шомлойская галушка (somlói galuska) - винтажный ромовый десерт, придуманный, по легенде, простым официантом. Отведать ее можно практически в любом ресторане Будапешта - если повезет. Вопреки обманчиво простому названию, сей кондитерский изыск являет собой нечто крайне сложносочиненное: бисквит темный, бисквит светлый, сливки взбитые, цедра лимонная, цедра апельсиновая, крем заварной (патисьер с ванилью, ммм), шоколад, ягоды, орехи, ром... Что ни слой - то скрытый смысл. Прощай, талия.
Бисквитную пасту Lotus с карамелью
Классическое бельгийское лакомство из невероятного печенья - эталона всех печений в мире. Деликатес со вкусом карамели нужно есть медленно, миниатюрной ложечкой - ибо паста так и тает во рту. Остановиться попросту невозможно. Невзирая на калории.
Шоколад с васаби
Изысканный тандем - горький шоколад и зеленая японская приправа - кому-то может показаться сочетанием несочетаемого. Однако распробовавшие это лакомство считают иначе. Вердикт: правильный десерт для тех, кто любит погорячее. А также для тех, кто недавно перечитывал книгу Джоанн Харрис и пересматривал фильм Жерара Кравчика.
Торт «Саркози»
Как и Париж, десерт имени французского экс-президента явно стоит мессы. Оттого и подают его в ресторане Messa на богемной тель-авивской улице ха-Арбаа. Горько-шоколадное безумие (шоколад, заметим, нескольких сортов - и все отменные) заставляет поверить в то, что Саркози вернется. Не иначе.
|
 |
Арье Варди: «Музыку надо любить больше, чем карьеру – вот и весь секрет»
| 28.01.2018Лина Гончарская |
Профессор Арье Варди – поразительная фигура. Его медиапроекты, где слушатель/зритель сам становится частью сюжета, навсегда переменили представления большинства израильтян о классической музыке. Напрасно вы стали бы полагать, что лик академического исполнительства – седые космы и высоколобость; Варди нашел увлекательный способ лишить классику надменного оттенка и позволил обнять ее миллионам (во всяком случае, на своей родине). Теперь она дружелюбна и раскованна, в ней много детской непосредственности, оттого и билеты на концерты разлетаются столь же резво, как диезы и бемоли. За всё это, и за многое другое, пианист, дирижер, педагог Арье Варди был премирован высшей наградой страны – в 2017 году он стал лауреатом Премии Израиля. Дух просвещения парит над всеми его концертами, телепрограммами и даже конкурсом имени Артура Рубинштейна, председателем жюри которого он является с незапамятных времен. Но и на этом Варди не останавливается: профессор Высшей музыкальной школы имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете и Высшей школы музыки и театра в Ганновере меняет формат.

– Совсем недавно вы предъявили Израильской филармонии любопытную программу под названием Prizewinning Young Pianists с участием чудо-деток разного возраста. Поскольку речь идет об абсолютно новом концертном формате с почти обязательным для нашего времени элементом игры, хотелось бы услышать о нем из первых уст.
– Действительно, перед концертом мы взяли видеокамеру и вышли с нашими юными гениями в парк, чтобы побеседовать с ними не только о музыке, но и вообще о жизни. А заодно показать характер и увлечения каждого. К примеру, один из них играет в баскетбол – и я играл с ним в баскетбол, и в ходе игры мы выяснили, что в самом процессе забрасывания мяча в сетку присутствует элемент дзен-буддизма, как в игре на рояле. Другая девочка увлекается шахматами – и я играл с ней в шахматы, и опять-таки в ходе игры мы сравнивали шахматный поединок и выступление солиста с оркестром. Третий мальчик любит запускать квадрокоптеры и очень в этом деле преуспел – один из его аппаратов развивает скорость до 100 км в час; мы запускали с ним квадрокоптер и рассуждали о том, что в этом есть нечто схожее с игрой на фортепиано: и то, и другое следует делать виртуозно.
– То есть сегодняшние вундеркинды тоже изменили формат? Или в чем-то они остаются такими же, какими были child prodigies прежних эпох?
– Мне вообще термин «вундеркинд» представляется сомнительным; это, скорее, ребенок, чьи родители наделены богатым воображением. Хотя подобный феномен должен был бы встречаться раз в столетие, такие дети теперь являются миру каждые несколько лет. Но когда я слышу рассказ о маленьком Губермане, который пытался сыграть Брамсу его Скрипичный концерт, а тот всячески от него отмахивался – дескать, этот концерт не для детей, не для детского разумения, не для детских чувств и интеллекта, да и технически он довольно сложен, – я действительно не могу поверить, как он умудрился сыграть его с такой степенью понимания и осмысления. Очевидно, этот маленький мудрец уже пережил прежние инкарнации. Или, скажем, Иегуди Менухин, игравший в 12 лет Скрипичный концерт Элгара, причем сэр Эдуард тоже не нашел времени его послушать, ибо спешил заняться верховой ездой. Что касается отличий сегодняшних чудо-детей, питающих пристрастие к интернету и компьютерным играм, от юных музыкантов прежних столетий, то мне сложно ответить на этот вопрос. Наверное, в каждом случае следует провести отдельное исследование (улыбается). При этом вовсе не обязательно быть вундеркиндом, чтобы стать большим музыкантом. К примеру, Рихтер не был вундеркиндом, да и многие прочие. Всё это время мир не перестает задаваться вопросом, стоит ли лишать детей детства, заставляя их заниматься чуть ли не с младенчества, когда они вроде бы не блистают гениальностью, а являются плодом родительских амбиций? Скажем, Бетховен – плод амбиций его отца, который даже подделал дату рождения сына, чтобы его подольше считали вундеркиндом... Или противоположный пример – Шопен, который в семь лет писал полонезы и которого видный польский композитор Эльснер уже тогда назвал «безперечно музичний геній». Что касается юных пианистов, о которых мы говорили, то они, безусловно, отличаются от обычных детей: говорят иначе, мыслят иначе, реагируют иначе.
– Среди ваших учеников много выдающихся пианистов современности, и даже самых выдающихся. Как можно попасть в ученики к педагогу такого уровня? И в каком возрасте стоит попытаться?
– Обычно я занимаюсь со студентами музыкальных академий, то есть с достигшими 18 лет, в Тель-Авиве и Ганновере. Но изредка я занимаюсь и с детьми. Одним из таких детей был Ефим Бронфман, который попал ко мне в возрасте 14 лет. Из недавних – Борис Гильтбург, который пришел ко мне, когда ему было 11; к слову, пять лет назад он стал победителем конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Я очень много езжу по миру, у меня нет возможности уделять юным ученикам столько времени, сколько им требуется. В случае с Гильтбургом я согласился только потому, что его мама – учительница фортепиано. И потому, что он сыграл мне Третий концерт Бартока. Так что если кто захочет стать моим учеником, он должен сыграть мне Третий концерт Бартока. И сыграть не просто хорошо, а великолепно.
– Вы много лет являетесь председателем жюри Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, заседаете в музыкальных судейских коллегиях по всему миру... Оттого я просто обязана задать вам банальный вопрос, который по-прежнему будоражит публику: действительно ли победа в конкурсе является доказательством таланта?
– Мне действительно приходилось отвечать на подобный вопрос сотни раз, отвечу еще раз, потому что это очень важно. Для молодых музыкантов, для их учителей, для их родителей, для публики. Так вот: когда Ефим Бронфман учился у меня, он очень хотел участвовать в конкурсах. Но я сказал: «Не стоит. Я не хочу, чтобы в твоей биографии было написано, что ты являешься лауреатом какого-либо конкурса. Почему? Потому что ты ни в одном из них не участвовал». Для меня было важно, чтобы был хотя бы один такой пример. Он расстроился, и тогда я продолжил: «Ну ладно, победишь ты на конкурсе и получишь в качестве награды концерт с Нью-Йоркским филармоническим под управлением Бернстайна. Так ты уже играл с Нью-Йоркским филармоническим под управлением Бернстайна. Значит, ты уже получил свой приз». Кстати, Евгений Кисин тоже обошелся без конкурсов. Или вот еще один яркий пример: Баренбойм однажды участвовал в конкурсе, но, по-моему, даже на второй тур не прошел... На самом деле, настоящий музыкант всю жизнь конкурирует – с самим собой. И эта внутренняя борьба куда ценнее.
– Не с этим ли связан известный парадокс, согласно которому весьма достойные пианисты часто отсеиваются после первого тура? Отчего, по-вашему, это происходит?
– Потому что очень сложно сравнивать. К примеру, кто лучше: Рубинштейн или Горовиц? Разве можно выбрать? Один лучше в Моцарте, другой в Скрябине, у кого-то интереснее звук, у кого-то мысли... Но до сих пор не изобрели другого способа, как из большой группы молодых музыкантов выбрать лучшего. Поэтому и существуют конкурсы. Они открыты для всех, и даже если кто-то отсеялся после первого тура, он всё равно уже обратил себя внимание. Разумеется, у конкурсов много минусов, я всегда говорю своим студентам: если ты можешь без этого обойтись, попробуй. С другой стороны, еще в античной Греции проводились музыкальные состязания. Правда, назывались они не конкурсами, а фестивалями. Оттого мы пытаемся представить конкурс имени Рубинштейна как фестиваль. Поэтому у нас наряду с «взрослым» жюри есть жюри детское, поэтому у нас можно аплодировать, как на концерте, поэтому наши конкурсанты играют на бис. И, наконец, поэтому у нас есть специальный приз «Любимец публики». Надо сказать, что публика вообще принимает самое деятельное участие в процессе, сравнивает интерпретации, проверяет, насколько ее вкусы схожи со вкусами жюри, и так далее. И еще: мы пытаемся быть максимально деликатными с теми, кто не добрался до финала. Помнится, однажды я решил вручить приз памяти родителей – и разделил его между теми конкурсантами, которые не прошли на третий тур.
– А что интереснее для вас лично: первый тур или финал?
– Первый тур, конечно, потому что тебя на каждом шагу поджидают сюрпризы. Перед тобой разворачивается захватывающая панорама стилей. Но если я могу приехать только на финал, мне будет интересно послушать тех, кого мои коллеги сочли лучшими. Кроме того, они играют с оркестром, а это непростое испытание.
– Судейство – тяжелая работа? Или можно получать от этого удовольствие?
– Порой приходится нелегко – когда тебе очень понравилась игра какого-нибудь конкурсанта, но он сходит с дистанции, поскольку твой вкус не совпал со вкусами других членов судейской коллегии. Тогда ты оказываешься в меньшинстве и очень переживаешь по этому поводу. Публика, к слову, тоже ужасно переживает, если ее любимец не проходит на следующий тур, и ругает жюри, на чем свет стоит. Но это, как ни странно, ту же публику привлекает, поскольку здесь включается синдром «жертвы». Точно так же, как в телевизионных конкурсах, вроде состязания шеф-поваров, где всякий раз, когда нужно отсеять кого-то, устраивают целую церемонию прощания, жертва рыдает, и это очень повышает рейтинг подобных шоу. Такова уж человеческая природа.
– Благодаря вашей телепрограмме «Интермеццо с Ариком», точнее, благодаря вашей необычной манере подачи высоких истин в доступном ключе, израильские граждане (и не только, учитывая, что программа идет с английскими субтитрами и доступна в YouTube) убедились в том, что классическая музыка – вовсе не надутая высокомерная дама с букольками. Но и это еще не всё: я слышала, что во время службы в армии вы читали лекции о музыке для заключенных...
– Да, это были узники армейской тюрьмы – среди них встречались и простые солдаты, которые случайно заснули на посту, и настоящие преступники. Поэтому, чтобы подобраться к классической музыке, я выбрал наиболее понятный для них путь: через сериалы, которые они смотрели, и кинофильмы. В те годы был популярен «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, саундтрек которого был собран из фрагментов классических сочинений, причем музыке здесь придавалось концептуальное значение – к примеру, героя, помешанного на Бетховене, пытали звуками обожаемой им ранее Девятой симфонии. А поскольку фильм рассуждал о сущности человеческой агрессии и адекватности наказания, мои слушатели отождествляли себя с его персонажами. Смотрели мы и модный тогда эротический французский фильм «Эммануэль», где были сцены с наркотиками. Сопровождала их музыка в форме вариаций, что позволило мне рассуждать о теме с вариациями в классических сочинениях... Я помню эти лекции до сегодняшнего дня. Мне даже кажется, что там я больше получил, нежели отдал. Узнал многое о другой жизни, о том, что творится вне уютного мира классической музыки. Хотя это было волнительно: меня все-таки оставляли без охраны, наедине с преступниками (улыбается) – заводили в тюрьму, и всё.
– Да, для такого требуются крепкие нервы... Скажите, а случалось ли вам отклонять приглашения в жюри?
– Случалось. Я получаю много приглашений на международные состязания, которые отклоняю либо из-за нехватки времени, либо из-за того, что не верю в объективность судей.
– И последний вопрос: есть ли какой-то секрет у Арье Варди – педагога и в чем он заключается?
– Да, есть. Я всегда говорю своим студентам: «Давайте устроим конкурс между собой: кто больше любит Шуберта, вы или я? Если вы хотите победить, вы должны сыграть Шуберта с такой любовью, чтобы я поверил, что вы любите его больше меня». Так вот: тот, кто соглашается, действительно любит музыку больше жизни. Музыку, а не карьеру. Вот и весь секрет.
Фото: Daniel Peleg |





|
 |
Элишева Несис.
«Стервозное танго»

|